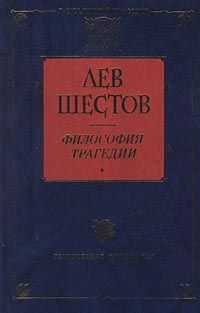Лев Шестов - Шекспир и его критик Брандес
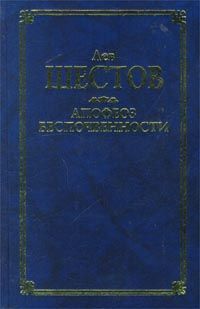
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Шекспир и его критик Брандес"
Описание и краткое содержание "Шекспир и его критик Брандес" читать бесплатно онлайн.
Лев Шестов – философ не в традиционном понимании этого слова, а в том же смысле, в каком философичны Шекспир, Достоевский и Гете. Почти все его произведения – это блестящие, глубокие неподражаемо оригинальные литературные экскурсы в философию. Всю свою жизнь Шестов посвятил не обоснованию своей собственной системы, не созданию своей собственной концепции, но делу, возможно, столь же трудному – отстраненному и непредвзятому изучению чужих философских построений, борьбе с рационалистическими идеями «разумного понимания» – и, наконец, поистине гениальному осознанию задачи философии как науки «поучить нас жить в неизвестности»…
К «Кориолану» же поэта толкнуло то обстоятельство, что он «жил уже на холодных высотах, за снеговой линией, по ту сторону человеческих похвал и упреков, над радостями почета и огорчениями славы, вдыхая чистый воздух горных мест – то высокое равнодушие, к которому стремится несомая своим презрением душа».[60]
Вся эта фраза составлена из выдернутых все у того же Ницше слов, на этот раз уже, вероятно, знакомых несколько нашим читателям, ибо все они уже занесены до некоторой степени в русскую литературу, тоже без ссылки на источник и приблизительно в такой же удачной комбинации, как и у датского критика. У Ницше все они имеют смысл и употребляются в свое время и на своем месте. Мы не можем здесь подробно говорить о Ницше, которого трагическая судьба привела к его поразительной философской лирике, если так можно выразиться, дающей ему возможность сохранить видимое душевное равновесие в таком положении, которое для всякого другого человека было бы невыносимым. Читая Ницше, не надивишься тому напряжению, до которого может дойти человек, если ему нужно оправдать и осмыслить свою жизнь здесь, «на отмели времен».
Но сила и мощь Ницше дала ему массу поклонников, разносящих по свету его «слова». К ним относится и Брандес. Это, конечно, его дело. Нас занимает здесь лишь то, что критик хочет приспособить Шекспира к Ницше. Датский критик полагает, что сделает честь Шекспиру, если докажет, что Шекспир дорос до Ницше к концу своей поэтической деятельности. Просперо в «Буре» Брандес уже называет «Übermensch'ем» – сверхчеловеком, т. е. тем идеалом, который воплотил в себе ницшевский Заратустра.
Теперь мы знаем, чтó «толкнуло» Брандеса к его рассуждениям, и все остальное выяснится для нас само собой.
Отчего Шекспир написал «Троила и Крессиду», где позволил себе такое непочтительное отношение к гомеровским героям?
«По всем человеческим (!) соображениям, горечь, которую испытал Шекспир, видя, что Пемброк предпочитает ему Чепмена (переведшего тогда Гомера на английский язык) в связи с тем неудовольствием, которое вызывали в нем высокомерие, неестественность, грубость, чопорность и педантизм старых поэтов, в свою очередь способствовала тому, чтоб побудить его к заносчивой оппозиции против обязательного преклонения пред гомеровским миром».[61]
Вторая причина – общее раздражение и пессимизм Шекспира, в силу которых он создает Терсита не как тип известного человека, а как выразителя собственного настроения.[62] Он обезобразил гомеровских героев лишь потому, что «писал в настроении такой глубокой горечи, которую не могла смягчить ни женская любовь, ни удивление (пред подвигами гомеровских героев)».[63] «Троил и Крессида» – «есть порождение зрелого возраста, недоверия, разочарования, горечи».[64] В этой пьесе обнажается у Шекспира тот нерв, которого «по обычным представлениям у него не было» и который выясняет, что «между прежней веселой Англией (merry England) и позднейшей страной сплина есть связь». И еще была причина: «Шекспир не в состоянии был понять гомеровскую поэзию».[65] Все это, действительно, очень непохоже на «обычные представления» о Шекспире. Любопытно лишь, как это человек, живущий «по ту сторону» хвалы и порицания, так дорожит кивком Пемброка?! Мы уже не вспоминаем о процентах и откупах, которых, конечно, за снеговой линией не бывает. Но критику необходимо присвоить Шекспиру горечь и пессимизм, чтобы довести его до всех холодных свойств, которые он приписывает Ницше. Без «презрения» за снеговую линию не попадешь. И он уверяет, что «устами» Терсита говорит сам Шекспир. А разочаровался поэт в жизни – вследствие разных неудач. Мы приведем небольшую выписку из речи Агамемнона, которая убедит читателя, как мало способен был Шекспир именно в ту пору, когда писал «Троила и Крессиду», падать духом даже от больших и серьезных неудач. Агамемнон ведет речь именно об уменьи бороться с бедой и с невзгодами и о необходимости противоставлять испытаниям судьбы настойчивость и терпение.
Драгоценность
Подобного металла (т. е. настойчивости) невозможно
Исследовать, покуда благосклонна
К нам грозная судьба. Иначе б храбрый
И трус, мудрец и безрассудный, сильный
И слабый, муж ученый и невежда —
Без всякого различья оказались
Все равного достоинства. Лишь бури
Превратностей житейских дуновеньем
Одним своим могучим разгоняют
С расплавленной поверхности металла
Негодную, бессильную ту накипь,
Что примесью дешевою зовется;
И только то, в чем есть и вес, и плотность,
Что в чистоте своей огнеупорной
Лежит на дне плавильного сосуда,
Считается металлом благородным.
Это ответ Брандесу. Успех Чепмена, пренебреженье Пемброка, высокомерие товарищей и прочие житейские неудачи могли бы обратить Шекспира в пессимиста, если бы он был «дешевою примесью», а не тем благородным металлом, который не боится ни высокой температуры, ни ударов молота. Но критик все ищет мрачности у Шекспира и, конечно, находит, если не стесняется утверждать, что поэт и устами Терсита говорил.
В «Кориолане» та же песня. Брандес все «глубже вникает в сочинения Шекспира и в обстоятельства эпохи» и находит все новые доказательства того, что жизнь и люди вызывали в поэте лишь одно негодование, и что мотивы, побуждавшие его к творчеству, были самого мелкого и низменного характера. Даже ему «трудно признаться», что Шекспир заискивал у Якова I, но он превозмогает себя и признается. И в «Гамлете», написанном еще в царствование Елизаветы, Брандес подмечает благодарные взгляды по адресу Якова, тогда еще шотландского короля, и в «Мере за Меру» оправдание Якова, бежавшего от чумы, и в «Буре», где Просперо – образный комплимент ученому английскому королю. Мы не будем вдаваться в подробный разбор всех его догадок, не имеющих даже интереса новизны. Они уже давно высказывались разными критиками, но серьезного значения почти никто им не придавал; никому и в голову не приходило ими объяснять творчество великого поэта. Брандес же в них видит то, что «толкало» Шекспира… Но тем важнее проверить его оценку «Кориолана», в котором, как и в «Юлии Цезаре», мировоззрение Шекспира должно было особенно резко сказаться. Мы приблизительно знаем, что Брандес «хочет сказать» о «Кориолане» и что побуждает его говорить именно это, а не другое. Так что выводы его нас не удивят.
Прежде всего критик пытается установить, что в «Кориолане» сказалось антидемократическое настроение Шекспира и его преклонение пред героями. Поэтому будто бы поэт изображает народ столь непривлекательным, а Кориолана полубогом. Откуда же взялось у Шекспира такое отношение к народу, в то время, когда, по признанию самого Брандеса, Шекспир простолюдина всегда изображал с лучших сторон? И вот тут-то мы встречаемся с курьезом, который не уступит придуманной одним критиком гипотезе о том, что Гамлет – это переодетая девица, влюбленная в Горацио. Тем не менее этот курьез очень характерен для современной критики, занимающейся расписыванием «случая». Для нее цельность поэтической души, внутренняя гармония между запросами духа и творчеством – непонятная, ненужная вещь – они ищут лишь связи между событиями, толчка, как причины, вызвавшей следствие. И всякая причина хороша, всякий толчок годится. Поэтому Шекспир и ростовщиком был, и завистником, и угодничал перед Яковом; поэтому он «не понимал Гомера», «без зазрения совести» изуродовал Цезаря. Критик не понимает, почему англичане в Шекспире видят «не только национального поэта, но и орган мудрости и находят в его поэзии лишь любовь к простому, справедливому, истинному». Брандесу кажется, что и без этих свойств можно быть величайшим поэтом в мире. Он у Тэна читал, что любовь к простому, справедливому и истинному есть только одна из форм, примыкающих к материи и специального значения иметь не может. Даже изучение Шекспира не помогает Брандесу, и он ухитряется понимать великого поэта как существо сначала смеявшееся, потом меланхолически вывшее, потом рычавшее и, наконец, снова перешедшее в мирные тона, хотя уже не веселого характера. Весь Шекспир перед человеком, эти «великие книги человеческих судеб», как выразился Гете, эта «светская Библия», как сказал Гейне, и все это богатство не в помощь ученому критику. Весь погруженный в отыскание «причин» и в подведение к «последнему слову науки», он ни на секунду не видит огненных букв, которыми писал великий поэт и полагает, что отдал должную дань «художественности», если назвал Тэна «односторонним» и, говоря о Шекспире, вместо «предикатов» и «понятий» употребляет такие слова, как судьба, отчаяние, божественный (о Фальстафе). Ему и в голову не приходит, что поэзия Шекспира связана с его любовью ко всему простому, истинному, справедливому, великому и прекрасному, что, более того, его поэзия и есть это истинное, великое и прекрасное. Брандес читал Ницше и знает, что поэт есть существо, умеющее высокопарно болтать о нравственном и ином величии и, чтоб не отстать от науки, отделяет творчество Шекспира, как нечто совершенно непохожее на жизнь его. Поэт может быть, выходит у него, ничтожностью и превосходно повествовать о величии! Но это – ложь. Для поэта нравственное величие не мечта, а то, чего он искал в жизни, чему он отдал всего себя. Великий поэт прежде всего отличается от нас тем, что ценит добро и красоту, чувствуя все их реальное значение, а не повторяя вслед за другими то, что считается признаком возвышенной души. Если для среднего человека Аполлон Бельведерский, Жанна д'Арк, Брут – суть лишь предметы обязательного преклонения, для которых, как для благородной потехи, отдается час, чтоб время посвятить «делам» и более приятным забавам, то поэт прежде всего ищет их в убеждении, что все остальное ему приложится. Для великого поэта добро и красота составляют сущность жизни, а не ее добавление. Как ни тяжел бывает путь поэта, он не свернет с него и не променяет его на колею среднего человека. И средние люди, насколько им удается постичь гения, именно то и ценят в нем, что он, несмотря на кажущиеся им непреодолимыми соблазны мира, идет, не останавливаясь, туда, где растет еще никому недоступное «лучшее» и для этого лучшего у него нет слишком тяжелых жертв. И если Шекспир был величайшим из гениев, то лишь потому, что он умел находить и ценить это «лучшее» и передавать его нам. В его произведениях мы находим, говоря его словами, «оправдание Небу» – то оправдание, которое он нашел Ему в своей душе. Кучка «плохих дилетантов», по Брандесу, оспаривает у Шекспира право называться автором своих произведений. Нет – не то; она оспаривает у критиков право навязывать поэту жизнь, от которой он бы с ужасом отвернулся, и обращать его в мечтающее ничтожество, «в философии действия, не достигающие и средней честности» (Ницше). Факты из биографии Шекспира вместе с «проницательностью» критиков делают больше, чем все дилетанты в мире. Они отнимают у поэта его искусство, обращают его произведения в «сказку, рассказанную глупцом, богатую словами и звоном фраз, но нищую значеньем». Значение Шекспира в том, что он мог быть так велик, не прибегая ко лжи, как и его Брут. Для него идеалы не были красивой ложью, как выходит у Брандеса, а лишь выражением истинных человеческих стремлений, которые и в нем самом не нашли себе настоящих слов. Он не приукрашает риторикой жизнь – он у жизни заимствует краски для своей поэзии. Вы чувствуете, что он всегда у источника. И в кого, под руками Брандеса, обращается величайший из людей!
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Шекспир и его критик Брандес"
Книги похожие на "Шекспир и его критик Брандес" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Лев Шестов - Шекспир и его критик Брандес"
Отзывы читателей о книге "Шекспир и его критик Брандес", комментарии и мнения людей о произведении.