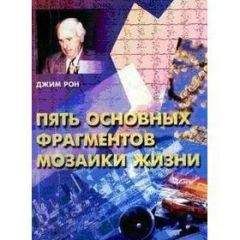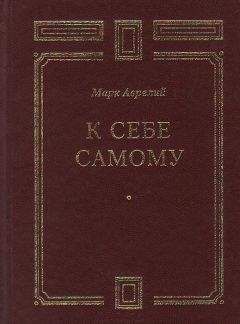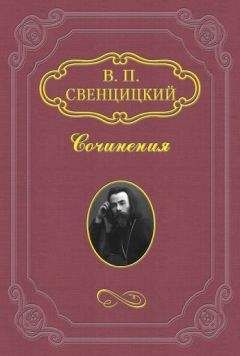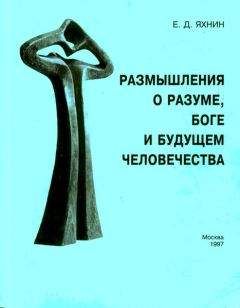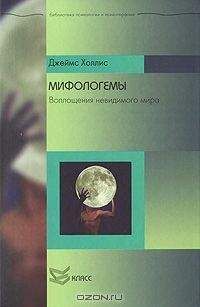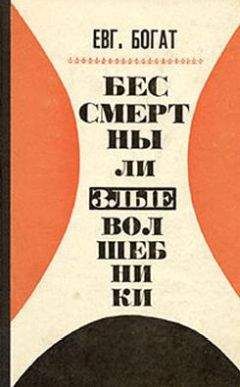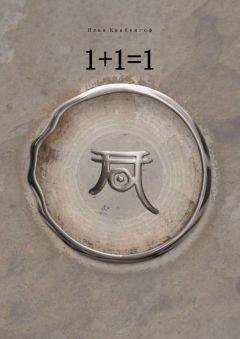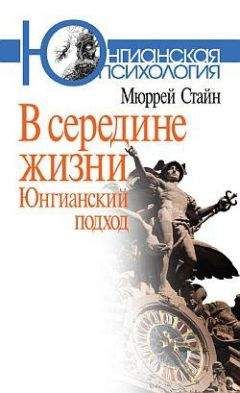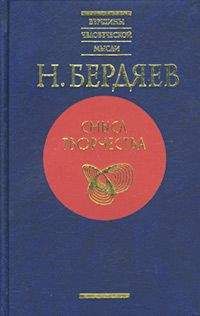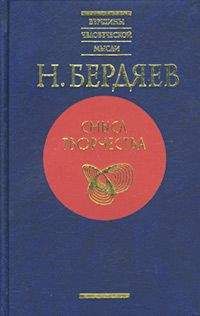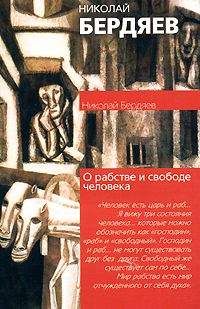Николай Бердяев - Самопознание

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Самопознание"
Описание и краткое содержание "Самопознание" читать бесплатно онлайн.
«… Книга эта мной давно задумана. Замысел книги мне представляется своеобразным. Книги, написанные о себе, очень эгоцентричны. В литературе „воспоминаний“ это часто раздражает. Автор вспоминает о других людях и событиях и говорит больше всего о себе. Есть несколько типов книг, написанных о себе и своей жизни. <…> Моя книга не принадлежит вполне ни к одному из этих типов. Я никогда не писал дневника. Я не собираюсь публично каяться. Я не хочу писать воспоминаний о событиях жизни моей эпохи, не такова моя главная цель. Это не будет и автобиографией в обычном смысле слова, рассказывающей о моей жизни в хронологическом порядке. Если это и будет автобиографией, то автобиографией философской, историей духа и самосознания. …»
Хотя я никогда не был человеком школы, но в философии я все-таки более всего прошел школу Канта, более самого Канта, чем неокантианцев. Я никогда не был кантианцем в строгом смысле, как не был толстовцем, марксистом или ницшеанцем. Но что-то от Канта осталось у меня на всю жизнь, и теперь я это чувствую более, чем когда-либо. Я был первоначально потрясен различением мира явлений и мира вещей в себе, порядка природы и порядка свободы, так же как признанием каждого человека целью в себе и недопустимостью превращения его в средство. У меня были разные периоды в отношении к Канту. Одно время я боролся с хлынувшим в русскую интеллектуальную жизнь неокантианским течением. Наибольшее отталкивание во мне вызвало когенианство, которым у нас увлекалась философская молодежь. В то время, время довольно интенсивной интеллектуальной жизни в московских философских кружках, я пытался найти традицию русской философии. Но я оставался в стороне от преобладающих течений. Неокантианство исказило Канта, закрыв главное в нем. Кант, вопреки распространенному убеждению, был метафизиком, хотя сам он не развил своей метафизики. Метафизическое же развитие германского идеализма после Канта у Фихте, Шеллинга, Гегеля при всем обнаружившемся тут гении шло в ложном направлении, в направлении монизма, устранении вещи в себе, окончательной замене трансцендентности Божества становящимся в мировом процессе Божеством, эволюцией, утере свободы, в необходимости торжествующего мирового Логоса. Многое в Канте мне было изначально чуждо. Я совершенно отрицательно всегда относился к этическому формализму Канта, к категорическому императиву, к закрытию вещей в себе и невозможности, по Канту, духовного опыта, к религии в пределах разума, к крайнему преувеличению значения математического естествознания, соответствующего лишь одной эпохе в истории науки. Формалистический морализм с категорическим императивом меня особенно отталкивал. В ранней юности я написал этюд под названием «Мораль долга и мораль сердечного влечения». Свою русскость я вижу в том, что проблема моральной философии для меня всегда стояла в центре. В моем юношеском опыте, исчезнувшем после обыска, я резко восставал против морали долга и защищал мораль сердечного влечения, то есть в этом был антикантианцем. Тогда уже у меня были мотивы, которые в зрелой форме развиты в моей книге «О назначении человека. Опыт парадоксальной этики», книги очень для меня важной. Всю мою жизнь я утверждаю мораль неповторимо-индивидуального и враждую с моралью общего, общеобязательного. Это есть неприятие никакой групповой морали, противление установленным этой моралью обязательным связям. Это приводило меня к отрицанию обетов, как противных свободе человека, обетов брачных, обетов монашеских, присяг и прочих. В этом я был революционером в морали. Всю мою жизнь я относился не только с враждой, но и с своеобразным моральным негодованием к легализму. Выпадение из-под власти формального закона я рассматривал как нравственный долг. Даже когда я утверждал что-то родственное Кирхегардту и Л. Шестову, я утверждал это в совершенно другой тональности, в другой волевой направленности. Я никогда не скажу, что человек, выпавший из общеобязательного нравственного закона, есть несчастный отверженный. Я скорее скажу, что хранитель общеобязательного нравственного закона есть совершенно безнравственный человек, кандидат в ад, а отверженный общеобязательным нравственным законом есть человек нравственный, исполнивший свой священный долг беззакония. Таков мой нравственный темперамент, агрессивный и обвиняющий, а не защищающий и не склонный чувствовать отвержения общеобязательного закона. Отверженность я переживаю как отвержение мной. Я извергаю, а не меня извергают. С известного момента моего пути я с необычайной остротой поставил перед собой и пережил проблему личности и индивидуальности. Это была не только проблема моей философии, но и проблема моей жизни. С ней, как расскажу потом, связан и мой отход от марксизма и многочисленные конфликты моей жизни. Я никогда, ни в своей философии, ни в своей жизни не хотел подчиниться власти общего, общеобязательного, обращающего индивидуально-личное, неповторимое в свое средство и орудие. Я всегда был за исключение, против правила. В этом проблематика Достоевского, Ибсена была моей нравственной проблематикой, как и пережитое Белинским восстание против гегелевского мирового духа, как некоторые мотивы Кирхегардта, которого я, впрочем, очень поздно узнал и не особенно люблю, как и борьба Л. Шестова против необходимых законов логики и этики, хотя и при ином отношении к познанию. Поэтому у меня всегда была вражда к монизму, к рационализму, к подавлению индивидуального общим, к господству универсального духа и разума, к гладкому и благополучному оптимизму. Моя философия всегда была философией конфликта. И я всегда был персоналистом.
§В теории познания я изошел от Канта. Но довольно скоро пришел к своеобразной теории познания, которую пытался усовершенствовать всю жизнь, хотя неспособен был создать системы. Она направлена против рационализма, который верит в выразимость бытия в понятии, в рациональность бытия. Но бытие рационально лишь потому и потому лишь выразимо в понятии, что оно предварительно рационализировано и что само оно есть понятие. По усовершенствованной мной впоследствии терминологии бытие, с которым имеет дело рациональная гносеология и онтология, есть уже продукт мысли. Сначала я себе это формулировал так, что есть первичное бытие до процесса рационализации и что оно и есть подлинное бытие, которое познаваемо не через понятие. Это приблизительно соответствовало кантовскому различению между вещью в себе и явлением. Но меня поражало, что Кант совсем не объяснил, почему образовался мир явлений, который не есть подлинный, первореальный мир. Странно было также то, что подлинный, нуменальный мир (вещь в себе) непознаваем, мир же вторичный и неподлинный (феномен) познаваем, и относительно него обоснована общеобязательная и твердая наука. В этом отличие Канта от Платона. Но учение Канта о трансцендентной иллюзии (Schein) гениально. С точки зрения современной психологии мою изначальную тему можно было бы формулировать как различение между бессознательным и сознанием, но научная психология и ее представители не способны к философскому обоснованию и развитию учения о бессознательном. Из неокантианских ближе других мне было течение, связанное с Виндельбандом, Риккертом и Ласком. Лишь это течение признавало иррациональное. Один летний семестр, молодым человеком, я даже слушал лекции Виндельбанда в очаровательном Гейдельберге. Но в это время я уже очень отошел от кантианства. Основная тема моя была в том, как дальше развить и вместе с тем преодолеть мысль Канта, пытаясь оправдать возможность познания первореальности до рационализации, до обработки сознанием. Это могло быть также формулировано как различение первичного и вторичного сознания. Вторичное сознание связано с распадом на субъект и объект, оно объективирует познаваемое. Первосознание погружено в субъект как первореальность, или, вернее, в нем дано тождество субъекта и объекта. В последние годы я формулировал эту проблему как отчуждение в процессе объективации единственно подлинного субъективного мира. Объективный мир есть продукт объективации, это мир падший, распавшийся и скованный, в котором субъект не приобщается к познаваемому. Я это выразил недавно в парадоксе: субъективное объективно, объективное же субъективно, ибо субъект есть создание Бога, объект же есть создание субъекта. Субъект есть нумен, объект же есть феномен. Думаю, что особенность моей философии прежде всего в том, что у меня иное понимание реальности, чем у большей части философских учений. Реальность для меня совсем не тождественна бытию и еще менее тождественна объективности. Мир же субъективный и персоналистический есть единственный подлинно реальный.
Я прошел длинный путь философского развития, но остался верен первоначальной интуиции. Вспоминаю, что я был на международном философском конгрессе в Женеве в 1904 году. Я тогда встречался с Г.В. Плехановым, который был плохим философом и материалистом, но интересовался философскими вопросами. Мы ходили с ним по Женевскому бульвару и философствовали. Я пытался убедить его в том, что рационализм и особенно рационализм материалистов наивен, он основан на догматическом предположении о рациональности бытия и уж на особенно непонятном предположении о рациональности бытия материального. Но рациональный мир с его законами, с его детерминизмом и каузальными связями есть мир вторичный, а не первичный, он есть продукт рационализации, он раскрывается вторичному, рационализированному сознанию. Вряд ли Плеханов, по недостатку философской культуры, вполне понял то, что я говорил. Сам я недостаточно развил гносеологическую сторону своей философии. Период религиозных исканий этому мешал. Но цель моя была раскрытие мира свободы, не подчиненного рационализации и не объективированного. Позже, в последние годы, я пришел к тому, что самое бытие не первично и есть уже продукт рационализации, обработка мысли, то есть, в сущности, пришел к отрицанию онтологической философии. Это был разрыв с онтологической традицией Парменида, Платона, Аристотеля, Фомы Аквината, многих течений новой философии вплоть до Вл. Соловьева с его учением о всеединстве. В какой-то точке это было даже ближе к индусской философии. Но такой тип мысли можно вывести из Я. Бёме, из Канта. Экзистенциальная философия должна была бы быть антионтологической, но мы этого не видим у Гейдеггера, который хочет строить онтологию. Впрочем, философия Гейдеггера есть философия Dasein, а не Sein и не Existenz[11]. Основная метафизическая идея, к которой я пришел в результате своего философского пути и духовного опыта, на котором был основан этот путь, это идея примата свободы над бытием. Это означает также примат духа, который есть не бытие, а свобода. Бытие есть как бы застывшая свобода, статизированная свобода. Примат бытия над свободой приводит к детерминизму и к отрицанию свободы. Если существует свобода, то она не может быть детерминирована бытием. Большая часть философских учений о свободе меня не удовлетворяла, особенно традиционное учение о «свободе воли». Были годы, когда для меня приобрел особое значение Я. Бёме, которого я очень полюбил, много читал и о котором потом написал несколько этюдов. Но ошибочно сводят мои мысли о свободе к бёмевскому учению об Ungrund’e[12]. Я истолковываю Ungrund Бёме как первичную, добытийственную свободу. Но у Бёме она в Боге, как Его темное начало, у меня же вне Бога. Это относится лишь к Gott, а не к Gottheit[13], ибо о невыразимом Gottheit ничего нельзя мыслить.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Самопознание"
Книги похожие на "Самопознание" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Николай Бердяев - Самопознание"
Отзывы читателей о книге "Самопознание", комментарии и мнения людей о произведении.