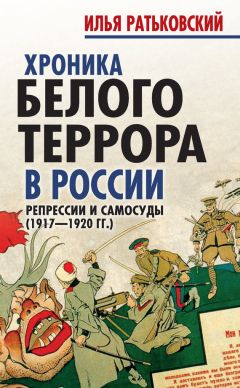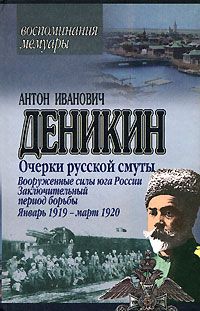Антон Деникин - Крушение власти и армии. (Февраль – сентябрь 1917 г.)

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Крушение власти и армии. (Февраль – сентябрь 1917 г.)"
Описание и краткое содержание "Крушение власти и армии. (Февраль – сентябрь 1917 г.)" читать бесплатно онлайн.
Автор «Очерков русской смуты» Антон Иванович Деникин (1872–1947), занимая в период с 1917 по 1920 гг. ключевые посты в русской армии, сыграл значительную роль в истории России, став одним из руководителей белого движения.
В данной книге автор рассказывает о событиях, происходивших в России в феврале – сентябре 1917 года: предреволюционная смута, военные реформы Временного правительства, потеря армией управления и, как следствие, – ее развал.
Для широкого круга читателей.
Организация общего областного управления не удалась. Началась внутренняя борьба.
На почве этой возникли два явления: первое – тяжелая атмосфера отчужденности и вражды между казачьим и иногородним населением, принимавшая иногда, впоследствии – в быстро менявшихся этапах гражданской войны, – чудовищные формы взаимного истребления – когда власть переходила из рук в руки. При этом, обыкновенно, та или другая половина населения крупнейших казачьих областей, устранялась вовсе от участия в строительстве и хозяйстве края.[192] Второе – так называемый казачий сепаратизм или самостийность.
Казачество не имело никакого основания ожидать от революционной демократии благоприятного разрешения своей участи, и особенно, в наиболее жизненном для него вопросе – земельном. С другой стороны, Временное правительство – также заняло двусмысленную позицию в этом отношении, и притом правительственная власть явно клонилась к упадку. Будущее рисовалось в совершенно неопределенных контурах. Отсюда, независимо от общего здорового течения к децентрализации, у казаков, веками искавших «воли», явилось стремление самим обеспечить себе максимум независимости, чтобы поставить будущее Учредительное собрание перед совершившимся фактом, – или, как говорили более откровенные казачьи деятели, «чтобы было с чего сбавлять». Отсюда – постепенная эволюция от областного самоуправления к автономии, федерации и конфедерации. Отсюда наконец, при вмешательстве отдельных местных самолюбий, честолюбий и интересов, – перманентная борьба со всяким началом общегосударственного направления, ослаблявшая обе стороны и затянувшая надолго гражданскую войну.[193] Эти же обстоятельства родили идею самостоятельной казачьей армии, возникшей впервые среди кубанцев, и не поддержанной тогда Калединым, и более государственными элементами Дона.
Всё изложенное относится, главным образом, к трем казачьим войскам (Дон, Кубань, Терек), составляющим более 60 % всего казачества. Но общие характерные черты свойственны и другим войскам.
В стремлении к объединению, казачество добивалось восстановления упраздненной должности походного атамана при Ставке, ведавшего ранее в административном отношении всеми казачьими войсками на фронте. В Ставку приезжала делегация казачьего союза просить о сохранении, до выяснения этого вопроса, атаманского штаба. Очевидно, в будущем предусматривалась возможность серьезного политического значения этого института. Верховный главнокомандующий, исходя исключительно из целесообразности, и не желая запутывать еще более в корне нарушенное единство командования, отнесся отрицательно к созданию новой должности. Интересно, что такого же взгляда держался сам признанный глава казачества, – генерал Каледин, – которому впоследствии правительство, опасаясь возрастающего влияния его на Дону, предложило пост походного атамана. «Должность эта, – говорил Каледин, – совершенно не нужна. Она и в прежнее время существовала только для того, чтобы посадить кого-нибудь из великих князей. Чины штаба проводили время в поездках в тылу и попойках, держась в почтительном отдалении от армии, ее нужд и горестей». Каледин решительно отказался. Однако, в левых кругах, чрезвычайно подозрительно относившихся и к казачеству и к Ставке, проэкт походного атаманства вызвал большое беспокойство. Отравленная болезненной подозрительностью, революционная демократия искала проявления контрреволюции, – и там, где руководствовались исключительно интересами государственными.
Сообразно с видоизменением состава Временного правительства, и падением его авторитета, менялось отношение к нему казачества, нашедшее выражение в постановлениях и обращениях совета союза казачьих войск, атаманов, кругов и правительств. Если до июля казачество вотировало всемерную поддержку правительству, и полное повиновение, то позже оно, признавая до конца власть правительства, вступает, однако, в резкую оппозицию по вопросам об устройстве казачьего управления и земства, против применения казаков для усмирения мятежных войск и районов, и так далее. В сентябре, после корниловского выступления, Донское войско, поддержанное другими, становится на защиту Донского атамана Каледина, объявленного мятежником Временным правительством, проявившим в этом деле чрезвычайное легкомыслие и неосведомленность. Лояльность Каледина в отношении общерусской власти простиралась так далеко, что уже после падения Временного правительства, он не решался расходовать на нужды области денежные запасы областных казначейств, и сделал это только после ассигнования, одним из прибывших в область членов бывшего правительства, 15 миллионов рублей… Атамана казаки не выдали, в посылке карательных отрядов категорически отказали. А в октябре Кубанская рада облекает себя учредительными правами, и издает конституцию «Кубанского края». С правительством говорят уже таким тоном: «когда же Временное правительство отрезвится от этого угара (большевистское засилие) и положит решительными мерами конец всем безобразиям?»
Временное правительство, не имея уже ни авторитета, ни реальной силы, сдало все свои позиции, и пошло на примирение с казачьими правительствами.
Замечательно, что даже в конце октября, когда, вследствие порыва связи, о событиях в Петрограде и Москве, и о судьбе Временного правительства на Дону, не было еще точных сведений, и предполагалось, что осколки его где-то еще функционируют, казачья старшина в лице представителей собиравшегося Юго-восточного союза[194] искала связи с правительством, предлагая помощь против большевиков, но… обусловливая ее целым рядом экономических требований: беспроцентным займом в полмиллиарда рублей, отнесением на государственный счет всех расходов по содержанию вне территории союза казачьих частей, устройством эмеритальной кассы для пострадавших, и оставлением за казаками всей «военной добычи» (?), которая будет взята в предстоящей междуусобной войне…
Небезынтересно, что Пуришкевич долго носился с идеей переезда на Дон Государственной Думы, для противовеса Временному правительству, и сохранения источника власти на случай его крушения. Каледин отнесся к этому предложению отрицательно.
Характерным показателем отношения, которое сумели сохранить к себе казаки в самых разнородных кругах, является та тяга на Дон, которая впоследствии, к зиме 1917 года, привлекла туда Родзянко, Милюкова, генерала Алексеева, Быховских узников, Савинкова и даже Керенского, который явился в Новочеркасск к генералу Каледину, в двадцатых числах ноября 1917 г., но не был им принят. Не явился только Пуришкевич, да и то потому, что в это время сидел в тюрьме у большевиков в Петрограде.
И вдруг оказалось, что все это чистая мистификация, что никакой силы у казачества в то время уже не было!
Ввиду разгоравшихся на территории казачьих войск беспорядков, атаманы не раз входили с ходатайством: о возвращении с фронта хотя бы части казачьих дивизий. Их ждали с огромным нетерпением, и возлагали на них самые радужные надежды. В октябре эти надежды как будто начали сбываться: потянулись домой казачьи дивизии. Преодолевая в пути всевозможные препятствия, задерживаемые на каждом шагу Викжелем и местными советами, подвергаясь не раз оскорблению, разоружению, употребляя где просьбу, где хитрость, а где и угрозу оружием, казачьи части пробились в свои области.
Как я уже говорил, противогосударственная пропаганда обрушилась с большою силою на казаков. Тем не менее, казачьи части, восприняв и комитеты, и все начала «революционной дисциплины», долго сохраняли относительную боеспособность и повиновение. Еще в июле, у меня на Западном фронте казачьи части выступали с неохотой, но безотказно против неповиновавшихся пехотных полков. Принимались меры, чтобы изъять казачьи войска из-под влияния армейских комитетов. Так на Юго-западном фронте образовалось казачье «правление», отозвавшее казаков из всех общеармейских комитетов, и ставшее в подведомственное отношение к «Совету союза казачьих войск». В полки одна за другой приезжали от областей делегации «стариков», чтобы вразумить опьяненную общим угаром «свобод» свою молодежь. Иногда это вразумление выражалось первобытным, и довольно варварским способом физического воздействия…
Но никакими мерами нельзя было оградить казачьи войска от той участи, которая постигла армию, ибо вся психологическая обстановка, и все внутренние и внешние факторы разложения, быть может, менее интенсивно, но в общем одинаково воспринимались и казачьей массой. Два неудачных и непонятных казакам похода на Петроград с Крымовым[195] и Красновым[196] внесли еще большую путаницу в их смутное политическое миросозерцание.
С возвращением казачьих войск в родные края, наступило полное разочарование: они – по крайней мере донцы, кубанцы и терцы[197] – принесли с собой с фронта самый подлинный большевизм, чуждый, конечно, какой-либо идеологии, но со всеми знакомыми нам явлениями полного разложения. Это разложение назревало постепенно, проявлялось позже, но сразу ознаменовавшись отрицанием авторитета «стариков», отрицанием всякой власти, бунтом, насилиями, преследованием и выдачей офицеров, а главное – полным отказом от всякой борьбы с советской властью, обманно обещавшей неприкосновенность казачьих прав и уклада. Большевизм и казачий уклад. Такие нелепые противоречия выдвигала ежедневно русская действительность, на почве пьяного угара, в который выродилась желанная свобода.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Крушение власти и армии. (Февраль – сентябрь 1917 г.)"
Книги похожие на "Крушение власти и армии. (Февраль – сентябрь 1917 г.)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Антон Деникин - Крушение власти и армии. (Февраль – сентябрь 1917 г.)"
Отзывы читателей о книге "Крушение власти и армии. (Февраль – сентябрь 1917 г.)", комментарии и мнения людей о произведении.