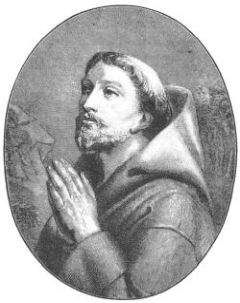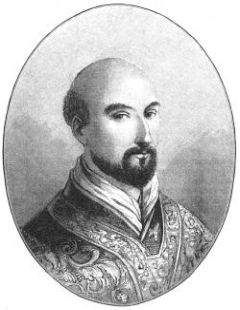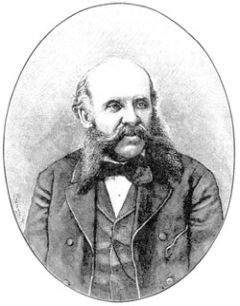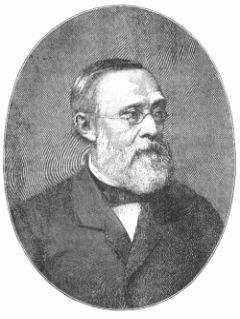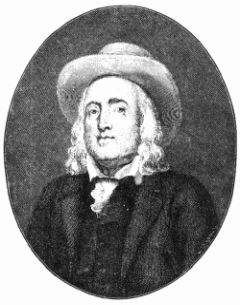Э. Гримм - Тиберий и Гай Гракхи. Их жизнь и общественная деятельность
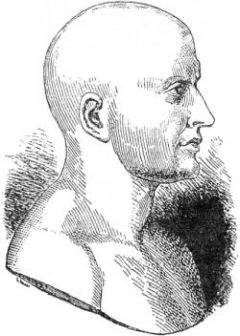
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Тиберий и Гай Гракхи. Их жизнь и общественная деятельность"
Описание и краткое содержание "Тиберий и Гай Гракхи. Их жизнь и общественная деятельность" читать бесплатно онлайн.
Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839-1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.
Эти люди, с которыми Тиберий частично состоял и в родственной связи, – так, с Аппием Клавдием через свою жену, с Муцианом и Сцеволой – через жену своего брата Гая, дочь Муциана, – эти люди, говорим мы, не могли не отнестись сочувственно к идеалам и планам пылкого молодого внука великого Сципиона. Они поддерживали и поощряли его в своих начинаниях и своей поддержкой способствовали его возвышению и упрочению его общественного положения.
Но и народ не мог не узнать о намерениях Тиберия, и скоро во всех общественных местах, на портиках, на стенах домов, на памятниках появились надписи, приглашавшие его помочь бедному народу. Наконец, рассказывают, что и его мать, Корнелия, поощряла его к деятельности, упрекая сыновей, что ее все еще зовут лишь тещей Сципиона, а не матерью Гракхов.
Как бы то ни было, несомненно, что Тиберий в 134 году выступил кандидатом на трибунат на 133 год с явным намерением произвести возможно более крупные реформы совершенно определенного типа. События 135 и 134 годов только могли усилить в нем решимость к такого рода деятельности: дело в том, что к этому времени приняло угрожающие размеры первое сицилийское восстание рабов.
Сицилия это время представляла собой тип страны, находящейся в руках крупных капиталистов. Капиталистический строй производства был перенесен сюда из Карфагена и окончательно привился в римское время. Огромные поместья обрабатывались здесь не свободными фермерами или рабочими, а стадами рабов. О величине этих поместий мы можем судить по цифрам, известным нам о Леонтинских государственных доменах в размере 30 тыс. югеров пахотной земли, находившейся несколько десятилетий спустя после Гракхов в руках каких-нибудь 84 откупщиков, 83 из которых принадлежали к числу римских спекулянтов, старавшихся высосать возможно больше из “поместий римского народа”, как тогда назывались провинции. Процветали при этом особенно две отрасли хозяйства: земледелие и скотоводство. Вся страна была переполнена рабами, и притом чуждого туземцам восточного, преимущественно сирийского, происхождения.
Между рабами-земледельцами и рабами-пастухами существовало, впрочем, большое различие: в то время как первые находились под постоянным надзором начальников, часто даже работали в цепях, – последние, скитаясь со своими стадами по огромным пространствам, свободные от всякого надзора, представляли собой очень опасный элемент и для путешественников, и, как впоследствии оказалось, для государства. Магнатов это не пугало, они их даже подстрекали к разбою. Так, к одному из них, рассказывают, пришло несколько рабов с просьбой дать им новые одежды. “Да разве, – спросил он, – путешественники ездят по стране голыми и не имеют ничего для нуждающихся?” Велев затем наказать плетью, он их прогнал.
Неудивительно, что при таких условиях опасность все возрастала, и последние мелкие собственники, не защищаемые толпой рабов, все чаще стали подвергаться ночным нападениям – не без ведома магнатов, старавшихся принудить их таким образом удалиться в город и продать или просто предоставить свои земли богатым соседям. Эти последние, разумеется, не подвергались такого рода опасностям, окружая себя в своих путешествиях многочисленным конвоем. Скоро, однако, и им пришлось убедиться в опрометчивости своего поведения: рабы стали чувствовать свою силу, и среди них возникла мысль о восстании и мести.
Восстание уже не могло не вспыхнуть – для этого нужен был только повод. Повод нашелся: 400 рабов одного из богачей священного города Сикулов Энны, Дамофила, находившего какое-то особенное удовольствие в истязаниях, которым он подвергал своих несчастных подчиненных, сговорились отомстить своему господину.
По совету известного киликийского раба Эвна, прославившегося среди них в качестве прорицателя, сногадателя и колдуна, они тотчас же бросились на город. Другие рабы немедленно к ним присоединились, и несчастные жители города, обезумевшие от страха и неожиданности нападения, должны были отплатить своим рабам за каждую несправедливость, за каждое дурное слово. Произошло страшное кровопролитие, в котором погиб и Дамофил.
Восставшие провозгласили Эвна царем сирийцев под именем Антиоха, и он немедленно надел диадему. В созванном им затем совете особенно выделился ахейский раб Ахей. Ему удалось организовать беспорядочную толпу наподобие войска, состоявшего сначала лишь из 6 тыс. рабов. Но быстро распространившееся известие о восстании скоро привлекло массу рабов к этому центру движения, выразившегося прежде всего в разграблении соседних поместий. Несколько отрядов, посланных против мятежников, были разбиты, число рабов все увеличивалось. Спустя какой-нибудь месяц после Эннской резни к восставшим присоединилась новая толпа из 8 тыс. человек под начальством некоего Клеона, поднявшего знамя восстания около Агригента. Надежда господ, что эти шайки уничтожат друг друга, оказалась тщетной.
Еще опасней и вместе характерней было то обстоятельство, что не только рабы как сельские, так и городские, но и свободные рабочие, свободный пролетариат присоединились к царю Антиоху, видя в его восстании просто борьбу с магнатами, с капиталом. Это становится еще более понятным ввиду строгой дисциплины, введенной Ахеем, истинным главнокомандующим рабов, в его войске, дошедшем скоро до 20 тыс. человек.
Видя быстрое возрастание опасности, римский претор Луций Гипсей собрал все находившиеся в его распоряжении силы – около 8 тыс. человек – и двинулся против рабов, но потерпел полное поражение и был принужден уступить поле битвы. Теперь восстание стало распространяться и на города: Мессана и Тавромений присоединились к нему, и число восставших, говорят, дошло до 200 тысяч.
Положение правящих классов оказалось крайне опасным; ряд вовремя открытых и подавленных заговоров в Риме, в Минтурнахе, Синуэссе, Аттике, на Делосе и в других местах доказывало, что известия о Сицилийском восстании не остались без влияния на всю массу рабов и что каждый новый успех царя Антиоха должен был тяжело отозваться на положении государства, тем более, что казна была совершенно пуста, а вследствие неутверждения договора, заключенного Тиберием, приходилось вести еще и испанскую войну.
Сенат понял, что необходимы более решительные меры: в Испанию послали Сципиона Эмилиана, в Сицилию – другого консула (134 г.), Гая Фульвия Флакка. И тот, и другой прежде всего опять были принуждены бороться с беспорядком и распущенностью в своем собственном войске. За войском всюду следовали прорицатели, сногадатели и разные другие шарлатаны, торговцы, маркитанты и т.д.; в лагере жили, как в городе. Неудивительно поэтому, что движения римского войска отличались крайней медленностью, между тем как отряды рабов, прекрасно знакомых со всеми дорогами и тропинками, привыкших за долгое время своего рабства к лишениям и трудам и возбуждаемых ненавистью к врагам, быстро передвигались с места на место. Понятно, что при таких условиях Флакк не мог иметь решительного успеха и передал Сицилию своему преемнику, консулу Л. Кальпурнию Пизону, в том же виде, в каком он ее принял.
Взятием Мессаны, во время которого погибло около 8 тыс. рабов, и восстановлением строгой дисциплины новому консулу удалось поколебать самоуверенность рабов и восстановить страх римского оружия. Тем не менее война продолжалась еще до 132 года, и рабы отчаянно защищались, сконцентрировавшись около Энны и Тавромения, пока наконец консул Публий Рупилий не взял и этих городов и казнью 20 тыс. мятежников не восстановил спокойствие.
Рим несколько успокоился, когда пришли первые известия о победах в Сицилии, но убеждение в необходимости реформ не могло не усилиться в свете событий последних лет. Существовало оно, как мы видели, и раньше, но не было человека, который решился бы воплотить его. Теперь такой человек появился: трибун 133 года Тиберий Семпроний Гракх. Условия для реформатора, по-видимому, были выгодны, тем более, что стоявший во главе государства консул П. Муций Сцевола, товарищ победителя рабов Пизона, был сторонником реформы и, во всяком случае, едва ли присоединился бы к ее врагам.
Но в чем же должна была заключаться реформа, в чем она могла состоять?
Можно было расширить и укрепить государственный фундамент, привлекая италийских союзников в его состав и даруя им право гражданства; можно, хотя и не без большой опасности, создать вместо иссякающего земледельческого третьего сословия торгово-промышленное, упразднив ограничение политических прав вольноотпущенников; можно, наконец, попытаться задержать процесс поглощения мелкой земельной собственности крупною и восстановить огромными земельными ассигнациями и основанием новых колоний могущественное некогда римское крестьянство, победителя самнитов, Пирра и Ганнибала.
Все три возможности были испытаны римской демократической партией. Начиная с мер в пользу римских крестьян, она впоследствии стала настаивать на эмансипации италиков, чтобы, наконец, потребовать полных гражданских прав для вольноотпущенников. Героем первого периода этого движения был Тиберий. Вопрос о причинах более или менее полной неудачи всех трех групп реформационных попыток демократии, разумеется, в высокой степени любопытен, но, к сожалению, мы здесь не имеем возможности остановиться на нем более подробно и потому ограничимся указанием лишь одной из основных причин. Необходимым условием для успеха таких крупных реформ является полное доверие народа к реформатору. Без твердой опоры на народ, на народное собрание самый смелый и энергичный реформатор ничего не мог сделать. А между тем вскоре оказалось, что народ в Риме находится далеко не на высоте положения.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Тиберий и Гай Гракхи. Их жизнь и общественная деятельность"
Книги похожие на "Тиберий и Гай Гракхи. Их жизнь и общественная деятельность" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Э. Гримм - Тиберий и Гай Гракхи. Их жизнь и общественная деятельность"
Отзывы читателей о книге "Тиберий и Гай Гракхи. Их жизнь и общественная деятельность", комментарии и мнения людей о произведении.