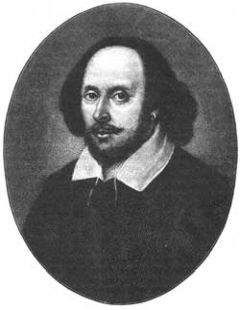Павел Безобразов - Сергей Соловьев. Его жизнь и научно-литературная деятельность

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Сергей Соловьев. Его жизнь и научно-литературная деятельность"
Описание и краткое содержание "Сергей Соловьев. Его жизнь и научно-литературная деятельность" читать бесплатно онлайн.
Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839–1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.
В 1838 году, восемнадцати лет, Соловьев был выпущен из гимназии первым учеником с обязанностью написать для акта рассуждение на тему “О необходимости изучения древних языков для успешного изучения языка отечественного”, за которое получил серебряную медаль.
На лето Соловьев поселился в качестве учителя в деревне князя Михаила Николаевича Голицына, сына разорившегося аристократа, малообразованного и развратного помещика. Воспитанием детей занималась княгиня, отличавшаяся нетерпимым характером, – женщина ограниченная, капризная, сварливая. Молодому Соловьеву поручили обучение четырех детей и между прочими Дмитрия, мальчика до безобразия толстого, вялого физически и умственно, в тринадцать лет с трудом читавшего по-русски. В доме Голицыных не говорили иначе как по-французски, с презрением относились ко всему русскому, Соловьева называли Mr. le Russe, и юноша вынужден был доказывать, что он гордится этим прозвищем, что имя русского драгоценно для него, что ему лестно быть единственным русским в целом доме. Аристократическая семья произвела тяжкое впечатление на юношу, воспитанного в совсем другой среде, и осенью он отказался жить в доме Голицыных; но это лето оставило некоторый след в его жизни, – одна крайность вызывает другую, и Соловьев на время ударился в славянофильство или, лучше сказать, русофильство.
Осенью Соловьев поступил в университет на первое отделение философского факультета (теперешний историко-филологический). Ректором был в то время М. Т. Каченовский, известный историк-скептик, человек очень честный и всеми уважаемый. Читал он уже не русскую историю, как прежде, а славянские наречия, и на этом поприще как по старости лет (ему было 64 года), так и по недостаточному знакомству с предметом не мог оказать большой пользы студентам. Деканом факультета состоял И. И. Давыдов, ученый карьерист, смотревший на науку как на средство выслужиться, получать чины и ордена. Получив Станислава первой степени, он откровенно объявил, что высшие ордена производят удивительное впечатление: он чувствует себя нравственно лучше, выше с тех пор, как награжден звездой. Академик Никитенко говорит о Давыдове в своем дневнике: “Вот человек, который из своего ума, таланта и обширных сведений сделал себе орудие мелкого своекорыстия. Стоило для этого столько трудиться, чтобы в заключение осквернить дары, предназначенные для лучшего употребления! Но такова безнравственность эпохи. Ум и дарование не возвышаются до веры в практическое добро. Как доказательство своей силы они представляют одни итоги нахватанных ими чинов, орденов и денег. Они не веруют ни в какое другое право на уважение общества. Это они называют искусством жить и презирают тех, которым недостает охоты или уменья идти их путем и употреблять свой ум и силы на ловлю житейских благ. Но не вправе ли они и в самом деле считать себя правыми?” Давыдов был несомненно прав, потому что сумел сделать блестящую карьеру и, покинув университет, попал не только в ординарные академики, но и в председательствующие русским отделением Академии наук. О его приезде в Петербург в 1842 году, когда Соловьев кончал университетский курс, в дневнике академика Никитенко имеется следующее любопытное известие: “Профессор Давыдов в большой милости у Уварова (министра народного просвещения). Он добился этого грубой лестью, которую министр всегда принимает с простодушием ребенка, чему нельзя не удивляться, ибо у него нельзя отнять ума, если не глубокого, то во всяком случае сметливого. Давыдов особенно завоевал его сердце статьей “О Поречье”, деревне Уварова, – статьею до того льстивой, что она насмешила всех в Петербурге, где нравы не так уже наивны, как в Москве. Уваров теперь принял здесь Давыдова с распростертыми объятиями. Недавно он заставил его прочитать по одной лекции в Екатерининском институте и Смольном монастыре, объявив предварительно девицам, что они услышат “русского Вильмена”. Давыдов явился и не произвел ожидаемого эффекта. Особенно не по вкусу пришелся он в Смольном монастыре. Делая там обзор русской литературы, он отказал в поэтическом даре Державину и вовсе не упомянул о Пушкине, разумеется, из желания угодить Уварову, который никак не может забыть “Лукулла”. В заключение Давыдов сказал, что всему в России дает жизнь и направление министерство народного просвещения. И все это в присутствии Уварова, который не покраснел и тогда даже, когда Давыдов торжественно объявил, что если он (Давыдов) сказал что-нибудь хорошее, то обязан этим не себе, а присутствию его высокопревосходительства: сам он (Давыдов) только “Мемнонова статуя, возбуждаемая лучезарным солнцем”.
Пресмыкаясь перед сильным, он требовал, чтобы и перед ним пресмыкались ниже его поставленные; людей дрянных, раболепствовавших он возвышал, и напротив, гнал людей порядочных, державших себя самостоятельно. Как декан он покровительствовал сыновьям знатных и сильных, от которых в свою очередь ждал покровительства, и делал это в ущерб бедным студентам.
Давыдов читал студентам историю русской словесности, но не сообщал им ничего нового; курс его был хорошо известен из напечатанных им “Чтений о словесности”. Но так как ему не хотелось повторять самого себя, то он читал вместо двух часов всего час и целый год, что называется, переливал из пустого в порожнее, поэтому студенты называли его курс “Нечто о ничем, или Теория красноречия”. Другим профессором русской словесности был Шевырев, пользовавшийся известностью в свое время, но также не понравившийся Соловьеву, потому что он на своих лекциях увлекался фразерством и риторикой. Шевырев при каждом удобном и неудобном случае говорил в самых напыщенных выражениях о гниении Запада, о превосходстве Востока, русского православного мира и прославлял Россию до такой степени, что лекции его среди студентов были прозваны казенными.
Древним языкам обучали: Оболенский – человек знающий, но бездарный и полусумасшедший, над странными речами которого студенты постоянно смеялись; еще более бездарный Меншиков и немец Гофман, ведший обучение совершенно по-гимназически, занимавшийся исключительно грамматикой, при чтении авторов обращавший внимание не на содержание, а на форму.
В сороковых годах на философском факультете не преподавалась философия, и потому студенты ожидали общих идей и их развития преимущественно от профессоров словесности и истории. Но литература была плохо представлена, и больше всего извлек Соловьев из исторических лекций. На первом курсе читал древнюю историю профессор Крюков, хотя и не самостоятельный, но даровитый ученый, хорошо знавший западную литературу и увлекавшийся Гегелем. Его блестящее и вместе с тем серьезное изложение увлекало слушателей, давало им не только много новых сведений, но и множество новых идей. Среднюю и новую историю читал Грановский, тогда только что начинавший приобретать известность. Лекции его производили на Соловьева такое же обаятельное действие, как и вообще на всех студентов, хотя чисто внешне Грановский читал нехорошо, говорил тихо, требовал напряженного внимания, заикался, глотал слова. Но внешние недостатки исчезали перед внутренними достоинствами речи, перед внутренней теплотой и силой, дававшей жизнь историческим лицам и событиям. Соловьев сравнивал изложение Грановского с изящной картиной, которая дышит теплотой, где все фигуры как живые действуют перед вами.
“Грановский, – говорит он, – принадлежал к числу тех немногих людей, которых, встретясь с ними раз, нельзя забыть, сошедшись с которыми, тяжело расстаться. Природа одарила его наружностью, какой долго ищут художники: лицо его представляло редкое соединение очертаний мужественной красоты с выражением глубокомыслия и вместе благодушия, сочувствия, которое влекло к нему с неотразимой силой. Теплое и разумное слово его ласкало человека, к которому обращалось, было всегда желанным, дорогим подарком. Грановский был щедр на эти подарки как самый общительный, сочувствующий человек, но с этой щедростью соединялась большая разборчивость. Он принадлежал к числу людей, мнение которых очень дорого ценится, и был судьею строгим при определении нравственного благородства. Такие люди, как Грановский, заставляют многих внутренно охорашиваться; и друзья, и не друзья, прежде чем делать, прежде чем сказать что-нибудь, задавали себе вопрос: “Что скажет об этом Грановский?” Понятно, что с такими нравственными средствами, какими обладал Грановский, влияние его на слушателя было могущественно. Грановский начал свою профессорскую деятельность, когда умы молодого поколения были сильно возбуждены великим стремлением, господствовавшим в исторической науке, – стремлением уяснить законы, которым подчинены судьбы человечества. Несмотря на непререкаемую важность, благотворность этого стремления, и здесь, как во всяком деле, во всяком стремлении человеческом, можно было дойти до вредной односторонности, которая и действительно обозначилась в исторических сочинениях, важных по своему достоинству и влиянию: имея в виду общие законы развития человечества, рассматривая исторических деятелей, целые поколения и народы только как орудия для достижения известных целей, приобретали жесткость взгляда, теряли сочувствие к поколениям и народам, к их радостям и торжествам, их страданиям и падениям; мало того, приобретали равнодушие, неразборчивость при оценке средств, которыми достигались известные исторические цели, целями оправдывались средства, не могущие быть оправданы на суде нравственном: что нужды, если употреблялись средства не нравственные, лишь бы употреблены были они во имя благодетельных для человечества идей. “Идеи не суть индейские божества, которых возят в торжественных процессиях и которые давят поклонников своих, суеверно бросающихся под их колесницы” – вот слова, раздавшиеся в аудиториях нашего университета с появлением в них Грановского. Грановский всеми силами своей любящей, сочувствующей души, всеми могущественными средствами своего живого, теплого таланта стал противодействовать вредной крайности господствующего направления, и в этом состоит его великая ученая и нравственная заслуга. Народы и поколения, в преподавании Грановского, являлись не мертвыми цифрами для решения известных исторических задач: они оживали перед слушателями, которые таким образом вводились в общество своих собратий, жили с ними одной жизнью, сочувствовали им, привыкали видеть в историческом человеке существо живое, чувствующее, и потому привыкали осторожнее обходиться с ними в своих чувствах, в своих суждениях. Грановский своим живым, теплым отношением к слушателям всего лучше напоминал учителя древнего мира: преподавание его не ограничивалось лекционными часами, студенты и окончившие университетский курс находили в нем всегда горячую готовность делиться с ними своими громадными сведениями, указывать средства к занятиям и доставлять эти средства из своей превосходно составленной библиотеки. Но что всего важнее было при этих беседах – это живительное впечатление, производимое на молодых людей, вступающих в жизнь, человеком, полным жизни, полным горячего сочувствия ко всем ее вопросам, – человеком, готовым всегда служить своим собратиям и словом, и делом. Отсюда понятна сильная привязанность к нему учеников и всех людей, близко его знавших”.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Сергей Соловьев. Его жизнь и научно-литературная деятельность"
Книги похожие на "Сергей Соловьев. Его жизнь и научно-литературная деятельность" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Павел Безобразов - Сергей Соловьев. Его жизнь и научно-литературная деятельность"
Отзывы читателей о книге "Сергей Соловьев. Его жизнь и научно-литературная деятельность", комментарии и мнения людей о произведении.