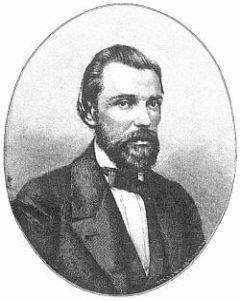Евгений Соловьев - Осип Сенковский. Его жизнь и литературная деятельность в связи с историей современной ему журналистики

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Осип Сенковский. Его жизнь и литературная деятельность в связи с историей современной ему журналистики"
Описание и краткое содержание "Осип Сенковский. Его жизнь и литературная деятельность в связи с историей современной ему журналистики" читать бесплатно онлайн.
Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии `Жизнь замечательных людей`, осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839–1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют свою ценность и по сей день. Писавшиеся `для простых людей`, для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.
Как бы то ни было, в этом увлечении немецким идеализмом видны большие запросы русской интеллигенции. Она, очевидно, искала той истинной полноты жизни, которая невозможна без философского, вполне ясного и определенного, миросозерцания. И одно время она почувствовала себя счастливой. Заковавшись в броню немецких систем, штудируя Гегеля и Шеллинга, проводя дни и ночи за чтением их не совсем-то удобоваримых произведений, она ощущала и полноту жизни, и радостное сознание, что все вокруг нее ясно и понятно. Was ist – ist vernünftig (существующее разумно) – такова была излюбленная формула, вокруг которой концентрировались все интересы мысли и чувства. Ее держались немалое время даже такие горячие люди, как Белинский, хотя к ним-то она уж совсем не подходила. Что требовалось от истого гегельянца? Развить все сокровища своей души для свободного самонаслаждения духом, стремиться к совершенству, взобраться на верхнюю ступень лестницы развития и созерцать величественную красоту бытия. А общество, а жертвы истории, а страдания миллионов? “Нечего, – говорит Гегель, – проливать слезы и жаловаться, что хорошим и нравственным людям часто и даже большею частью плохо живется, тогда как дурным и злым – хорошо”. Это необходимо, мир таков, каким он должен быть: Разум прекрасно пользуется для своих целей как страданиями, так и радостями людей, и не все ли равно, будут ли то страдания или радости, раз Абсолют достиг своей цели – самопознания.
В том факте, что лучшие представители молодого и, в сущности, еще мало жившего народа страстно набрасываются на систему, которая, как у Гегеля, провозглашает завершенным круговорот мира и гордо говорит, что дальше некуда, да и незачем, идти, есть что-то трогательное. Молодое, еще не жившее общество, полное неясных надежд и неосознанных сил, как бы хочет отказаться от деятельности и погрузиться в одно созерцание. Но очевидно, что так не могло продолжаться долго. Реакция против безусловного господства немецкого идеализма должна была начаться, и действительно она скоро началась, только не с одной стороны, а сразу с нескольких.
Во-первых, учение Шеллинга и Гегеля о народностях заставило русских людей призадуматься над вопросом: зачем же существуют они сами, зачем и к чему эта многомиллионная Россия, представляющая из себя во всяком случае очень внушительное образование? По теории Шеллинга, “каждая народность обязана выполнить какую-нибудь самостоятельную миссию, осуществить какую-нибудь идею во всемирно-исторической жизни человечества. В зависимости от того, мелкую или крупную идею безусловного разума выполнит народ, он получает свое значение во всемирной истории. Если народ внесет крупный вклад в сокровищницу общечеловеческой цивилизации, он делается первенствующим, всемирно-историческим, в противном случае он теряет свое значение, находится в положении второстепенных народов и осуждается на постоянное духовное рабство у других народов”. Какова же судьба России в ряду других народов человечества? К ней, как и ко всему славянскому миру, относились презрительно. Гегель считал германцев избранным народом, а гегельянцы твердо веровали, что “один германец выработал в себе человека, и другие народы должны сперва сделать из себя германца, чтобы научиться от него быть человеком”. Хорошо, но обидно. Прибавьте к вышесказанному еще следующие слова самого Гегеля: “Славяне должны быть выпущены в нашем изложении, ибо они представляют из себя нечто среднее между европейским и азиатским духом, и потому их влияние на постепенное развитие духа не было достаточно деятельно и важно, несмотря на то, что их история разнообразно переплетается с историей Европы и сильно в нее вторгается”. Еще лучше, яснее, но еще обиднее.
Реакция против такого высокомерия должна была начаться, тем более что немцы доходили до того, что делили человечество на два разряда: die Menschen und die Russen – “люди” и “русские”. Учение о народности было первым стимулом к борьбе с безусловным господством немецкого идеализма. (См. Мих. Бор…н. “Происхождение славянофильства”).
На сцену выступили славянофилы.
Во-вторых, реакция против Гегеля и Шеллинга, в особенности против первого, шла со стороны сердца. В этом виновато учение о личности, которую Гегель низводил до нуля, не желая знать ее радостей и страданий и презирая вопросы о ее счастье и несчастье. Белинский энергично потребовал, чтобы ему отдали отчет во всех жертвах условий жизни и истории, во всех жертвах случайностей, суеверия, инквизиции Филиппа II. Он не хотел счастья и даром, если не будет “спокоен насчет каждого из своих собратий по крови”. Страдание есть зло, и не должно быть жертв случайностей и истории. Смелая мысль горячего любящего сердца не мирилась с пантеистическим равнодушием гегельянства.
Как бы на помощь этой точке зрения явились различные учения из Франции. Их принято называть вредными, что же, не в названии дело, – присвоим и мы им этот эпитет. Итак, появились “вредные” учения.
В сороковых годах начинается уже чувствоваться влияние Жорж Санд, П. Леру, сенсимонистов вообще. Прекрасно говорит об этом Достоевский:
“Появление Жорж Санд в литературе совпадает с годами моей первой юности, и я очень рад теперь (1876 год), что это так уже давно было, потому что теперь, с лишком тридцать лет спустя, можно говорить почти вполне откровенно. Надо заметить, что тогда только это и было позволено, т. е. романы; остальное все – чуть не всякая мысль, особенно из Франции, – было строжайше запрещено. О, конечно, весьма часто смотреть не умели, да и откуда бы могли научиться: и Меттерних не умел смотреть, не то что наши подражатели. А потому и проскакивали “ужасные вещи”, например, проскочил весь Белинский… Но романы все-таки дозволялись, и сначала, и в середине, и даже в самом конце, и вот тут-то, и именно на Жорж Санд, сберегатели дали тогда большого маха… Надо заметить и то, что у нас, несмотря ни на каких Магницких и Липранди, еще с прошлого столетия всегда тотчас же становилось известным о всяком интеллектуальном движении в Европе и тотчас же из высших слоев нашей интеллигенции передавалось и массе хотя чуть-чуть интересующихся и мыслящих людей. Точь-в-точь то же произошло и с европейским движением тридцатых годов. Об этом огромном движении европейских литератур, с самого начала тридцатых годов, у нас весьма скоро получилось понятие. Были уже известны имена многих новых явившихся ораторов, историков, трибунов, профессоров. Даже, хоть отчасти, хоть чуть-чуть, известно стало и то, куда клонит все это движение. И вот особенно страстно это движение проявилось в искусстве – в романе, а главнейшее – у Жорж Санд. Правда, о Жорж Санд Сенковский и Булгарин предостерегали публику еще до появления ее романов на русском языке. Особенно пугали русских дам тем, что она ходит в панталонах, хотели испугать развратом, сделать ее смешной. Сенковский, сам же собиравшийся переводить Жорж Санд в своем журнале “Библиотека для чтения”, начал называть ее печатно г-жой Егором Зандом и, кажется, серьезно остался доволен своим остроумием. Впоследствии, в 1848 году, Булгарин печатал об ней в “Северной пчеле”, что она ежедневно пьянствует с Пьером Леру у заставы и участвует в афинских вечерах, в министерстве внутренних дел, у разбойника министра внутренних дел Ледрю-Роллена. Я это сам читал и очень хорошо помню. Но тогда, в 1848 году, Жорж Санд была у нас уже известна почти всей читающей публике, и Булгарину никто не поверил… Мне было, я думаю, лет шестнадцать, когда я прочел в первый раз ее повесть “Ускок” – одно из прелестнейших первоначальных ее произведений; я помню, я был потом в лихорадке всю ночь… Жорж Санд не мыслитель, но это одна из самых ясновидящих предчувственниц (если только позволено выразиться такою кудрявою фразою) более счастливого будущего, ожидающего человечество, в достижение идеалов которого она бодро и великодушно верила всю жизнь и именно потому, что сама, в душе своей, способна была воздвигнуть идеал. Сохранение этой веры до конца обыкновенно составляет удел всех высоких душ, всех истинных человеколюбцев… Она основывала свои убеждения, надежды и идеалы на нравственном чувстве человека, на духовной жажде человечества, на стремлении его к совершенству и к чистоте, а не на муравьиной необходимости. Она верила в личность человеческую безусловно (даже до бессмертия ее), возвышала и раздвигала представление о ней всю жизнь свою – в каждом своем произведении и тем и признавала ее свободу. Жорж Санд верила в будущее человечества, верила в грядущее счастье, и для многих русских людей сороковых годов ее романы были великолепной демократической школой”.
Читатель, быть может, недоумевает, зачем говорили мы о Гегеле и Шеллинге, Леру и Жорж Санд. Однако мы не делали ничего другого, как только рассказывали историю падения журнала Сенковского. Ведь, в сущности, как бы ни относились мы к немецкому идеализму, надо согласиться, что он вышколил русскую мысль, впустил ее в самый круговорот интеллигентной жизни Запада и приучил ее к таким запросам, которые раньше не мерещились ей и во сне. Само увлечение этим идеализмом – увлечение подчас наивное, детское – все же говорит нам о серьезной работе, происходившей в лучшей части русского общества, а реакция против Шеллинга и Гегеля свидетельствует о еще более интересном обстоятельстве. Русская мысль демократизировалась – это факт громадный и несомненный. Демократизировалась в славянофильстве, искавшем сближения с народом и веровавшем в эту темную и запуганную массу, демократизировалась в западничестве, быстро перешедшем на точку зрения Леру, Жорж Санд и пр. Что же при таком ходе дела оставалось Сенковскому и его журналу? Приходилось отступать, сохраняя по возможности честь и славу, к сожалению, только по возможности.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Осип Сенковский. Его жизнь и литературная деятельность в связи с историей современной ему журналистики"
Книги похожие на "Осип Сенковский. Его жизнь и литературная деятельность в связи с историей современной ему журналистики" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Евгений Соловьев - Осип Сенковский. Его жизнь и литературная деятельность в связи с историей современной ему журналистики"
Отзывы читателей о книге "Осип Сенковский. Его жизнь и литературная деятельность в связи с историей современной ему журналистики", комментарии и мнения людей о произведении.