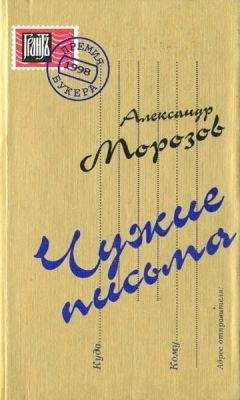Марио Льоса - Письма молодому романисту
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Письма молодому романисту"
Описание и краткое содержание "Письма молодому романисту" читать бесплатно онлайн.
Марио Варгас Льоса, один из творцов «бума» латиноамериканского романа, несомненный и очевидный претендент на Нобелевскую премию, демонстрирует на сей раз грань своего мастерства и таланта, до сих пор почти не известную российскому читателю. «Письма молодому романисту» – великолепная книга о писательском ремесле, в котором прославленный мастер раскрывает свои профессиональные секреты. Варгас Льоса предстает здесь блестящим и остроумным мыслителем, замечательным знатоком мировой литературы.
Но, пожалуй, лучше обратиться к другим образцам литературных перемещений, не таким мрачным, как у Рульфо. Самый симпатичный, веселый и забавный из всех, что приходят мне в голову, – это метаморфоза в «Письме в Париж одной сеньорите» Хулио Кортасара. Там мы тоже найдем замечательный сдвиг уровня реальности, когда рассказчик-персонаж, автор упомянутого в заголовке письма, вдруг признается: у него есть весьма неудобная особенность – его рвет крольчатами. Перед нами качественный скачок в забавной истории, которая тем не менее, видимо, имеет по-настоящему трагический финал, ведь герой, измученный приступами, когда его рвет крольчатами, в конце рассказа убивает себя, как можно заключить из последних фраз.
Кортасар часто использовал этот прием в своих рассказах и романах. Он прибегал к нему, чтобы в корне изменить природу выдуманного им мира, чтобы перебросить его из почти обычной, простой реальности, сотканной из предсказуемых, банальных, рутинных вещей, в другую реальность, фантастическую, где происходят невероятные события (вспомним только что упомянутых крольчат) и где нередко царит насилие. Вы конечно же читали рассказ «Менады» – один из кортасаровских шедевров. Там постепенно, за счет количественного накопления, происходит духовное преображение описанного мира. То, что кажется безобидным концертом в театре «Корона» и сперва вызывает экзальтированный энтузиазм публики, затем перерастает во взрыв дикой ярости – спонтанный, необъяснимый и нечеловеческий, в суд Линча или войну не на жизнь, а на смерть. К концу неожиданного побоища мы чувствуем полную растерянность, потому что не понимаем, на самом ли деле все это произошло или было кошмарным сном, а может, ужасный случай имел место в «другом мире», и в его фундамент легло необычное смешение выдумок, подавленных страхов и темных инстинктов человеческого духа.
Кортасар лучше других писателей умел пользоваться этим приемом – замедленными или внезапными скачками в пространстве, времени или из одного уровня реальности в другой, благодаря чему и возникают сразу узнаваемые очертания кортасаровского мира, где неразрывно спаяны поэзия и воображение, непогрешимое чутье на то, что сюрреалисты называли чудесным-повседневным, а также плавная и чистая, без следов вычурности, проза, где кажущаяся простота и разговорный стиль на самом деле скрывают сложную тематику и безудержную смелость вымысла.
И если уж я по ассоциации принялся перебирать романные перемещения, которые накрепко засели у меня в памяти, не могу не назвать и то, которое происходит – образуя один из кратеров – у Селина в «Смерти в кредит», хотя к этому писателю я не испытываю ни малейшей личной симпатии, скорее антипатию и даже отвращение – из-за его расизма и антисемитизма, – и тем не менее он написал два великих романа (один я уже назвал, второй – «Путешествие на край ночи»). В «Смерти в кредит» есть незабываемая сцена: герой должен переправиться через Ла-Манш на корабле, битком набитом людьми. На море разыгралась буря, началась сильная качка, и всех, кто находился на борту, – и членов экипажа, и пассажиров – стало выворачивать наизнанку. В результате, как того и требует атмосфера мерзости и озверения, которая так завораживала Селина, судно покрывают потоки блевотины. До сих пор мы находились в натуралистическом мире, где царили ужасающая вульгарность, жизненная серость и моральный упадок, – иначе говоря, любые описания опирались на объективную реальность. Однако эта блевотина, которая почти в буквальном смысле обрушивается на нас, читателей, вымазывая всей той грязью и дрянью, какие только можно себе вообразить и какие только может исторгнуть человеческий организм, эта блевотина начинает – благодаря особой неспешности повествования и зрительной яркости создаваемой Селином картины – постепенно «отрываться от реальности» и превращается в нечто фантастическое, апокалипсическое, из-за чего в некий миг уже не горстка мужчин и женщин, страдающих морской болезнью, блюет на палубе, но все человечество. Происходит сдвиг, в результате которого события перемещаются на иной уровень реальности, в план воображаемого и символического, даже фантастического, и теперь все вокруг затронуто этой невероятной метаморфозой.
Мы могли бы еще долго, очень долго рассуждать на тему изменения перспективы, но главное уже сказано, и приведенные примеры сполна проиллюстрировали, каким образом действует прием – в разных его вариантах – и как это отражается на романе. Пожалуй, стоит повторить лишь то, что я неустанно повторяю начиная с самого первого своего письма. Само по себе перемещение ничего не предрешает и не значит, ведь успех или неудача – в смысле убедительности произведения – зависят в каждом случае от того, как именно автор его использует в данной истории: один и тот же прием может укрепить убедительную силу романа либо разрушить ее.
В заключение мне хотелось бы напомнить Вам теорию фантастической литературы, разработанную великим франко-бельгийским критиком и литературоведом Роже Кайуа (он изложил ее во вступлении к составленной им «Антологии фантастической литературы»). По его мнению, настоящая фантастическая литература не есть что-то заранее обдуманное, не есть результат сознательного действия автора, который решил написать фантастическую историю. Для Кайуа настоящая фантастическая литература – лишь та, где невероятное, чудесное, сказочное, необъяснимое с точки зрения здравого смысла событие происходит внезапно, непреднамеренно и даже так, что сам автор этого не замечает. Иначе говоря, такие произведения, где фантастическое появляется, так сказать, motu proprio[8]. Там не рассказываются фантастические истории; нет, сами эти произведения фантастические. Теория Кайуа, конечно же, далеко не бесспорна, но она оригинальна и многозначна. На этом я и завершу разговор о перемещениях, один из вариантов которых – если Кайуа не слишком увлекается фантазированием – самопроизвольный сдвиг, без участия автора завладевающий текстом и направляющий его по пути, неведомому творцу.
Крепко Вас обнимаю.
IX
Китайская шкатулка
Дорогой друг!
Еще один прием, который используют писатели, чтобы придать своим сочинениям убедительность, – я назвал бы «китайской шкатулкой» или «русской матрешкой». В чем его суть? В том, что история строится на манер упомянутых нами народных поделок, когда в некоем предмете обнаруживается такой же, но меньшего размера – и так далее, и так далее. Однако подобная структура (основная история порождает все новые и новые истории, из нее вытекающие) не должна быть конструкцией чисто механической (хотя на практике весьма часто именно таковой она и оказывается), иначе прием не станет работать. Нужный художественный эффект достигается лишь в том случае, если описанная нами композиция привносит в произведение значимый для его содержания элемент – допустим, загадку, многозначность, особую замысловатость интриги, – и потому она выглядит безусловно необходимой: не как одна из возможных форм соединения частей, а как симбиоз, способный все перевернуть с ног на голову и заставить отдельные элементы воздействовать друг на друга. Например, мы вправе утверждать, что в «Тысяче и одной ночи» композиция подобна китайской шкатулке – именно так выстроены знаменитые арабские сказки, наделавшие столько шума в Европе, после того как их открыли и перевели на английский и французский. Но там это структура преимущественно механическая, в то время как в современных романах – назовем тут «Короткую жизнь» Хуана Карлоса Онетти – принцип китайской шкатулки действует во много раз эффективнее, ибо в немалой степени за счет него история обретает особое изящество, преподносит читателю изощренные сюрпризы.
Но, кажется, я слишком спешу. Лучше начать с самого начала и более обстоятельно описать эту технику – или повествовательный прием, – чтобы затем рассмотреть разные ее варианты, способы применения, возможности и опасности.
Думаю, лучшим примером здесь будет только что упомянутая книга – классика повествовательного жанра, которую испанцы смогли прочесть в переводе известнейшего писателя Бласко Ибаньеса, который в свою очередь перевел книгу с французского перевода доктора Ж. Ш. Мардрюса. Я имею в виду «Тысячу и одну ночь». Позвольте напомнить Вам, каким образом разные истории соединяются там между собой. Шехерезада, дабы избежать казни, которой подверглись все предыдущие жены жестокосердного султана, рассказывает ему сказки и устраивает так, что в конце каждой ночи история прерывается на самом интересном месте и любопытство заставляет султана продлить рассказчице жизнь еще на одни сутки. Продолжается все это тысячу и одну ночь, после чего султан милует замечательную сказительницу (проникшись великой любовью к сказкам). Как удается хитроумной Шехерезаде рассказывать бесконечную историю, составленную из множества историй, и без зазоров соединять сказки меж собой? С помощью приема китайской шкатулки: она вставляет одну историю в другую, меняя рассказчиков (временные, пространственные перемещения и смена уровней реальности). Так, внутри сказки о слепом дервише, которую Шехерезада рассказывает султану, появляются четыре купца – один из них рассказывает трем остальным историю прокаженного из Багдада, а внутри этой истории появляется рыбак-путешественник, который, не теряя времени даром, забавляет народ на рынке в Александрии описанием своих морских подвигов. На манер китайской шкатулки или русской матрешки каждая история таит в себе другую, подчиненную ей, если можно так выразиться, в первой, второй или третьей степени. Именно таким образом – то есть благодаря «китайским шкатулкам» – истории образуют внутреннюю систему, где целое обогащается за счет суммы частей и где каждая часть – каждая отдельная история – в свою очередь обогащается (по крайней мере испытывает воздействие) за счет своего зависимого – либо структурообразующего – положения по отношению к прочим историям.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Письма молодому романисту"
Книги похожие на "Письма молодому романисту" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Марио Льоса - Письма молодому романисту"
Отзывы читателей о книге "Письма молодому романисту", комментарии и мнения людей о произведении.