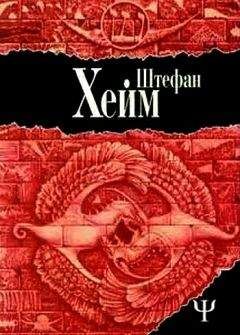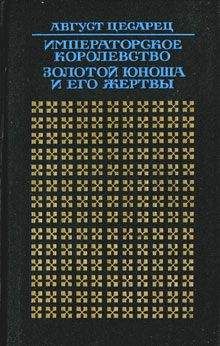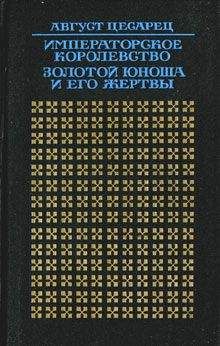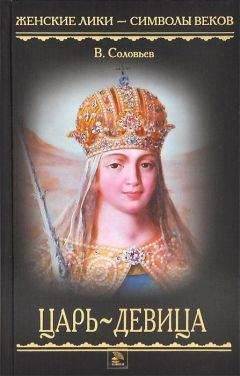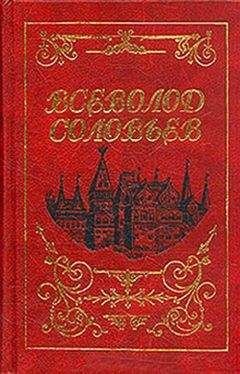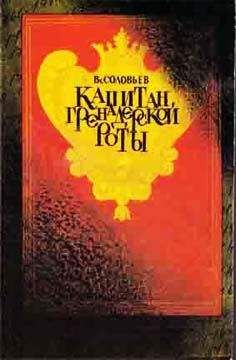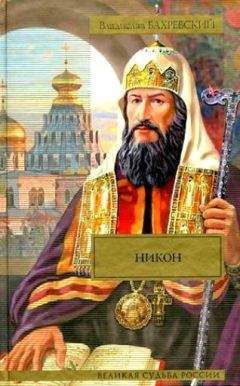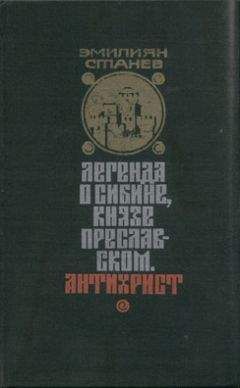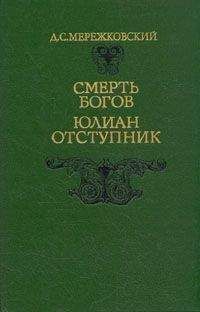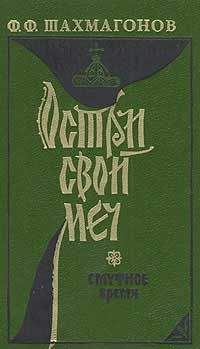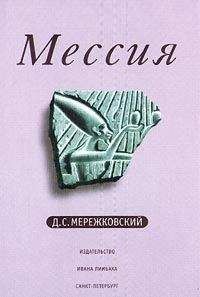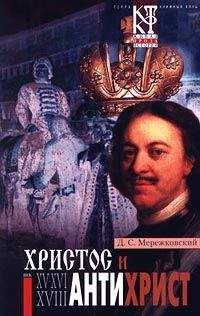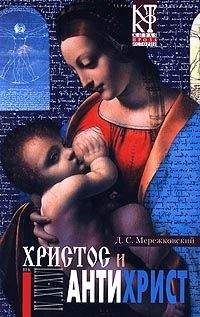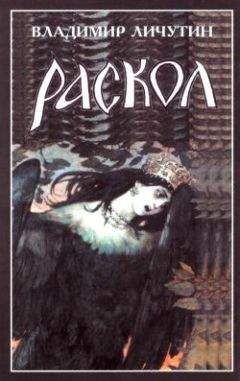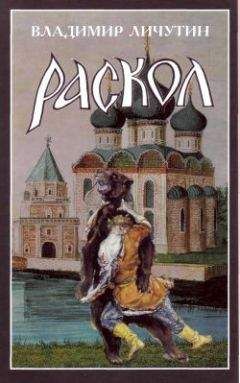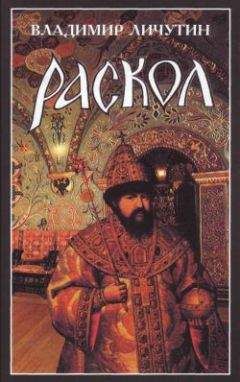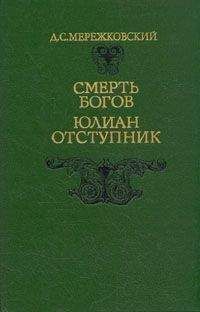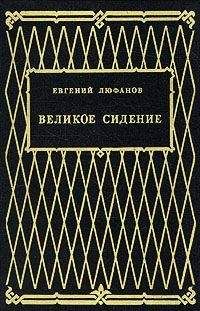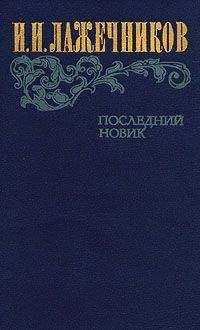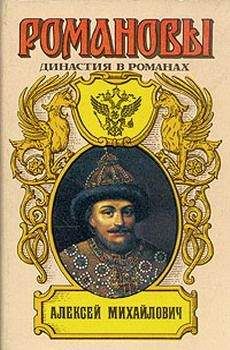Дмитрий Мережковский - Реформы и реформаторы
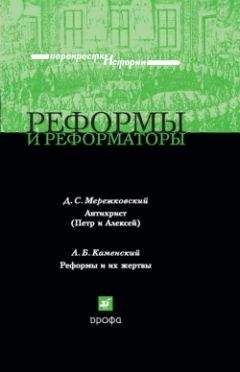
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Реформы и реформаторы"
Описание и краткое содержание "Реформы и реформаторы" читать бесплатно онлайн.
В наши дни слово «реформа» является едва ли не самым употребительным. А какие бывают реформы? Как они осуществляются? И не слишком ли большую цену приходится за них платить? Попытаться найти ответы на эти вопросы читатель может у русского философа и писателя Д.С.Мережковского – в историческом романе «Антихрист (Петр и Алексей)» и у современного историка А.Б.Каменского – в очерке «Реформы и их жертвы».
К концу XVII в. по темпам развития Россия стала все более отставать от стран Западной Европы. "Догнать Европу" можно было, только изменив социальную структуру общества, принципы организации государственной службы и пр., преодолев церковный раскол.
Остается вопрос о контрреформах и их неизбежности. Но, прежде чем говорить об этом, стоит попытаться дать им определение. Если заглянуть в «Советский энциклопедический словарь» (1979), то можно с удивлением обнаружить, что там контрреформами названы мероприятия, проводившиеся в России Александром III. Создается впечатление, что больше нигде и никогда контрреформ не бывало. Это, конечно, не так. Например, Павел I, придя к власти, отменил ряд установлений своей матушки Екатерины II и тем самым произвел контрреформы, вернув некоторые сферы жизни в дореформенное состояние. Именно этот процесс – отмена реформы и возврат к дореформенному состоянию, – по-видимому, и стоит называть контрреформой.
Однако зачастую за контрреформы принимают явления совсем иного порядка. Дело в том, что реформы, и в особенности реформы радикальные, широкомасштабные, затрагивающие одновременно разные сферы общественно-государственной жизни, требуют, как правило, мобилизации населения, высокого напряжения сил общества. Но долго находиться в подобном напряжении общество не может. Оно нуждается в передышке, которая одновременно необходима для корректировки результатов радикальной реформы, ее апробации, приспособления к реалиям жизни. Именно это и случилось, например, в России после смерти Петра I, когда пришедшие ему на смену в условиях острого экономического кризиса политики-прагматики вынуждены были «подправить», скорректировать некоторые элементы выстроенной Петром империи, сохранив, однако, все основные принципы, на которых она покоилась[75]. Вероятно, аналогичным образом, по крайней мере отчасти, можно трактовать и эпоху Александра III.
Сказанное имеет непосредственное отношение к проблеме цены реформ, и потому имеет смысл поговорить о необходимости мобилизации всех сил общества в условиях проведения радикальной реформы. Вполне очевидно, что общество, даже будучи настроено на ожидание перемен (когда реформа имеет достаточно широкую социальную поддержку), вовсе не готово к жертвам ради успеха реформ. Соответственно, этот успех зависит от методов реализации преобразований и от существующей системы взаимодействия власти и общества. В России первой четверти XVIII в., где собственно общество как социально активная, обладающая определенным уровнем осознания своих гражданских прав часть населения еще не сформировалось, Петр I осуществлял преобразования путем насилия и принуждения, не спрашивая у подданных, желают ли они перемен. Но именно Петровские реформы создали условия для возникновения общества в означенном выше смысле. И уже Екатерина II объясняла статс-секретарю В. С. Попову успех своих начинаний следующим образом: «Я разбираю обстоятельства, советуюсь, уведывая мысли просвещенной части народа, и по тому заключаю, какое действие указ мой произвесть должен. И когда уже наперед я уверена в общем одобрении, тогда выпускаю я мое повеление и имею удовольствие то, что ты называешь слепым повиновением»[76]. Крестьянской реформе Александра II предшествовало ее длительное обсуждение в специальных комитетах. Творец «экономического чуда» в Западной Германии после окончания Второй мировой войны Л. Эрхард считал нужным подробно объяснять населению необходимость и последствия каждого шага своего правительства.
Столь же «прозрачны» и потому понятны обществу были реформы Ф.-Д. Рузвельта в США в 30-е годы ХХ в. Отсутствие подобной коммуникации между властью и обществом в России в первой половине 90-х годов ХХ в. привело к быстрому разочарованию в реформах и невозможности их осуществления в полном объеме.
Однако, как бы хорошо ни было налажено взаимодействие власти и общества, очевидно, что при всяком изменении существующего положения кто-то непременно что-то теряет, поскольку разные группы населения имеют разные интересы, и от проведения реформы все выиграть в равной степени не могут. Причем при радикальной реформе, предполагающей перестройку системы управления, потери несет и политическая элита, чей социальный статус напрямую связан с сохранением существующей системы организации власти. Также очевидно, что политическая элита, в чьих руках сосредоточены властные полномочия, более, чем кто-либо другой, имеет возможность оказать сопротивление реформаторским замыслам. Встает вопрос: при каких условиях возможно осуществление радикальной реформы, т. е. при каких условиях политическая элита оказывается неспособной оказать достаточно эффективное сопротивление?
Один из ответов на этот вопрос связан с понятием системного кризиса. Слово «кризис» в политической публицистике встречается едва ли не так же часто, как слово «реформа». Кризис воспринимается обычно как своего рода катастрофа. Между тем современная политическая наука рассматривает кризис как естественный этап в развитии всякой системы. Он наступает тогда, когда система оказывается неспособной адекватно реагировать на меняющиеся внешние условия, иначе говоря, достигает предела своего развития в сложившемся виде. Результатом кризиса может стать либо перестройка системы, т. е. ее приспособление к новым условиям, либо ее разрушение и возникновение на ее месте новой системы. Именно в последнем случае и происходит то, что можно назвать катастрофой[77].
Понятно, что при подобной трактовке словосочетание «системный кризис» – это тавтология. Однако, поскольку этот термин широко употребляется для характеристики состояния обществ и государств на определенном этапе их развития, отказываться от него вряд ли есть смысл. Для нашей же темы важно, что в условиях системного кризиса происходит дезорганизация политической элиты, что, собственно, является и проявлением кризиса, и его следствием. В результате элита оказывается неспособной оказать организованный отпор реформатору, покушающемуся на ее социальный статус. Именно такой системный кризис имел место в России накануне Петровских реформ и в СССР накануне перестройки, и именно он сделал возможным радикальные преобразования.
Но как же так: в XVIII в. расследование «дела царевича Алексея» как раз и обнаружило существование широкой оппозиции реформам, причем исключительно в рядах политической элиты, не говоря уже о стрелецких бунтах, восстаниях казаков и пр., а в 1991 г. сопротивление советской элиты и вовсе вылилось в путч? События августа 1991 г. как раз и продемонстрировали слабость оппозиции, не сумевшей ни собрать под своими знаменами сколько-нибудь влиятельные политические силы, ни в полной мере опереться на армию или спецслужбы. И в течение трех дней оппозиция была фактически сметена невооруженным населением. Что же касается гораздо больше интересующего нас в данном случае времени Петра I, то тут дело обстояло сложнее.
Действительно, в следственных документах «ясно вырисовывается обширный круг влиятельных и близких к царю деятелей, связанных неявными, а иногда и прямо конспиративными связями и ориентированных при этом на царевича Алексея»[78]. Все это были люди, по тем или иным причинам (часто сугубо личным) недовольные политикой Петра I, и за пределами круга собственно политической элиты их, конечно же, было еще больше (все возможные сведения об оппозиции Петру собрал недавно американский историк П. Бушкович[79]). Однако имеющиеся данные не дают основания говорить о существовании заговора, т. е. организованной оппозиции реформам. Как верно почувствовал и отметил в романе «Антихрист» Д. С. Мережковский, «никакого дела не было, а были только слова, слухи, сплетни, бред кликуш, юродивых, шушуканье полоумных стариков и старух по монастырским углам».
Конечно, свою роль в этом сыграли и многие иные факторы. Ко времени «дела царевича Алексея» старая политическая элита фактически уже перестала существовать, а новая еще только складывалась. Но в том-то и дело, что прежняя, старомосковская политическая элита уступила свое место на исторической сцене, даже не пытаясь оказать сопротивление. Как отмечал американский историк Р. Крамми, «когда Петр сделал радикальную европеизацию официальной политики, они [бояре. – А. К.] ушли, возможно, нехотя, но не протестуя»[80]. Объяснить это можно лишь дезорганизацией элиты в условиях системного кризиса.
Но был ли кризис? Из школьного курса истории России известно, что в XVIIв., оправившись после Смуты начала столетия, и в экономическом, и в политическом отношении Русское государство развивалось довольно динамично. В это время шло интенсивное освоение земель Поволжья, Сибири и Дальнего Востока, произошло воссоединение с Левобережной Украиной, появились зачатки промышленного производства, торговые связи постепенно охватывали всю территорию страны, шел процесс укрепления институтов политической власти.
Однако в том-то и дело, что сложившиеся в XV – XVI вв. система государственного управления и социальная структура Русского государства не соответствовали его новому характеру и тем задачам, которые перед ним вставали. По своей сути Россия этого времени уже фактически стала империей с огромной территорией, многонациональным и мультикультурным населением, различными политическими традициями и неравномерным хозяйственным развитием разных частей страны. Перед российской властью встает главная для всякой империи проблема сохранения государственной целостности. Удержать под своей властью столь разные территории и народы с помощью прежних, выработанных в иных условиях и для решения иных задач методов, форм и механизмов управления было уже невозможно. Но важнее другое: по темпам технико-экономического и социального развития Россия стала все более отставать от ведущих стран Западной Европы, где именно в XVII в. эти темпы значительно возросли благодаря развитию науки, образования и «военной революции», в результате которой возникают регулярные профессиональные армии.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Реформы и реформаторы"
Книги похожие на "Реформы и реформаторы" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Дмитрий Мережковский - Реформы и реформаторы"
Отзывы читателей о книге "Реформы и реформаторы", комментарии и мнения людей о произведении.