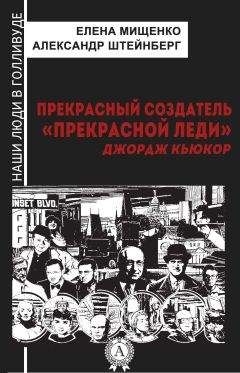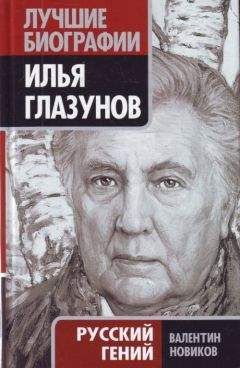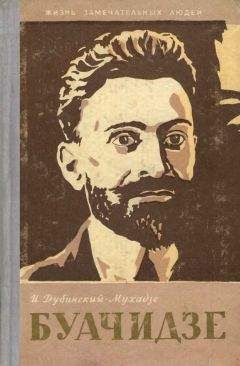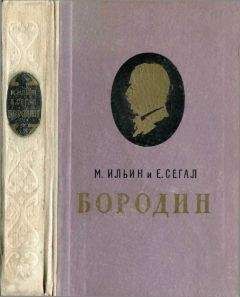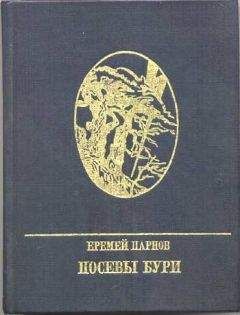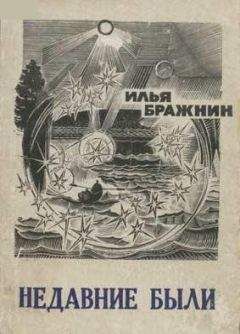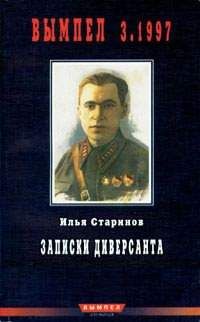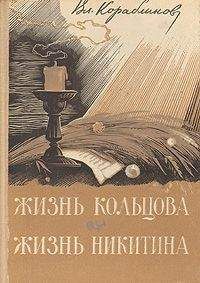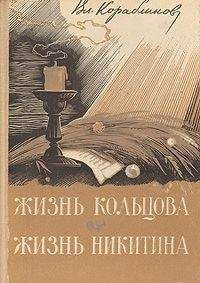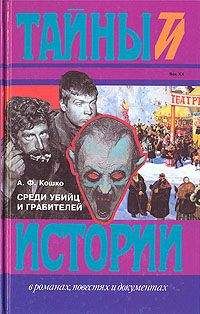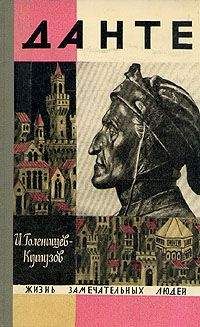Илья Бражнин - Сумка волшебника
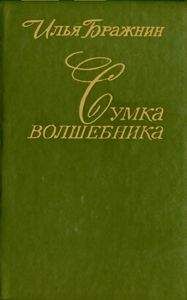
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Сумка волшебника"
Описание и краткое содержание "Сумка волшебника" читать бесплатно онлайн.
Илья Яковлевич Бражнин — старейший ленинградский прозаик. Вошёл в литературу в 1928 году романом «Прыжок», о молодёжи 20-х годов. За 50 лет работы выпустил много книг, полюбившихся читателям. Среди них романы «Моё поколение», «Друзья встречаются» и др., повести: «Побег», «Главный конструктор», «Мечта бессмертна», «Он живёт рядом» и др., а также рассказы, военные очерки, пьесы.
Особое место в творчестве И. Я. Бражнина занимает книга «Сумка волшебника», посвящённая писательскому труду.
Рассказчик на аукционе обнародовал историю портрета именно в новолуние пятьдесят лет спустя, и роковой портрет на глазах у многочисленных зрителей исчез с полотна и превратился в «какой-то незначащий пейзаж».
Всю эту неинтересную канитель с превращением портрета в пейзаж и исчезновением антихриста Гоголь, к счастью для его репутации и к удовольствию читателя, изъял из повести. Во втором варианте от этого не осталось ничего, и дьявольское начало умерено до должной и допустимой степени.
Об исчезнувшем антихристе как об элементе автопортретности Гоголя в его «Портрете» я скажу ещё немного в следующей главе, а пока — хватит с нас чудес.
Луини, Грёз и другие
В предыдущих главах я говорил мельком о том, что «портреты» и уайльдовские и гоголевские есть одновременно и автопортреты авторов, хотя понимать это прямо и однозначно не следует. Об этом следует говорить не мимоходом, а основательней и подробней, ибо автобиографичность созданий авторских столь же важна, сколь и сложна. Попробуем несколько разобраться в этом многосложном обстоятельстве. Начнём с того, как смотрят сами творцы портретов на возможность и желанность автобиографических черт? Признают ли они конкретно жизненную связь своих произведений и своих героев с ними самими?
Помните, знаменитое и поистине блистательное лирическое отступление, открывающее седьмую главу первого тома «Мёртвых душ?» Помните, как энергически протестует писатель против того, что «современный суд», рассуживая писателя с персонажами его произведений, «придаёт ему качества им же изображённых героев»?
Автор не желает быть смешанным с изображёнными им героями, которые являют собой, по воле автора, «всю глубину холодных, раздроблённых, повседневных характеров, которыми кишит наша земная, подчас горькая и скучная дорога», идя которой, верный правде жизни, автор «крепкою силой неумолимого резца дерзнул выставить их выпукло и ярко на всенародные очи».
Он, автор, как будто недвусмысленно сетует на то, что критика смешивает автора с его героями, ибо это, видимо, крайне нежелательно ему... Но несколькими строками ниже тот же автор признаёт сам: «И долго ещё определено мне чудной властью идти об руку с моими странными героями, озирать всю громаднонесущуюся жизнь, озирать её сквозь видимый миру смех и незримые, неведомые ему слёзы!»
Позиция автора явно противоречива: с одной стороны, он протестует против того, чтобы его ставили в один ряд с его героями, с другой стороны, он сам, своей волей и желанием, становится с ними в ряд и идёт «об руку» с ними через «громаднонесущуюся жизнь».
Странное противоречие — не правда ли? Противоречие налицо — это так, но оно, я бы сказал, ничуть не странно, а напротив, весьма обычно и для авторов и для героев.
Вот, к примеру, один из героев «Портрета Дориана Грея», романа, о котором я много уже говорил, а именно — художник Бэзил Холлуорд, говорит, обращаясь к Генри Уоттону: «Каждый портрет, написанный с чувством, есть в сущности портрет художника, а отнюдь не, его модели. Модель — это просто случайность. Не её раскрывает на полотне художник, а скорее самого себя».
Очень определённая, ясная и чёткая позиция — не так ли? Да, очень определённая и очень чёткая, что не мешает, однако, шестью страницами ниже тому же Холлуорду в разговоре с тем же лордом Генри заявить, что; «художник должен создавать прекрасные произведения, но не должен в них вкладывать ни частицы своей личной жизни».
Позже Бэзил Холлуорд высказывается ещё определённей и резче: «Искусство гораздо больше скрывает художника, чем его обнаруживает».
Опять противоречие, и опять вопиющее: с одной стороны, всякий портрет есть портрет художника, с другой стороны, произведение искусства больше скрывает, чем обнаруживает, художника.
Несколько иную позицию, чем Гоголь, занимает по отношению к своим героям Пушкин. Он неизменно привержен своим героям и постоянно говорит об этой приверженности, о сочувствии своём к ним: «Простите мне, Я так люблю Татьяну милую мою». «Мария, бедная Мария», «Подруга дней моих суровых, Голубка дряхлая моя». Много добрых слов сказано Пушкиным о главном герое «Станционного смотрителя» Самсоне Вырине. Известен собственноручный рисунок Пушкина, на котором он изобразил себя стоящим у парапета на набережной Невы рядом с Евгением Онегиным.
Но вместе с тем Пушкин восстал, когда его отождествляли с Онегиным.
Опять противоречие и снова противоречия? Да, и снова нет в этом ничего необычного, ничего неестественного. Любовь и склонность, приверженность к своим персонажам и схожесть с ними — всё имеет свои границы, свои градации, свои степени. Какими-то чертами характера, какими-то элементами воспитания и Пушкин мог походить и походил на Онегина. Эту общность метопов воспитания утверждал и сам Пушкин, когда, рассказывая о том, как воспитывался и образовывался Онегин, говорил: «Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь, так воспитаньем, слава богу, у нас не мудрено блеснуть. Онегин был...» и так далее. Как видите, Пушкин, рассказывая о воспитании, полученном Онегиным, говорит: «Мы» учились понемногу, объединяя в этом «мы» себя со своим героем и с другими современниками.
Утверждение авторами своих сходственных черт с чертами героя не должно ни удивлять, ни тем более поражать. Это естественно и не может быть иначе. Литературные дети должны походить какими-то чертами на своих создателей точно так же, как дети в жизни физически и нравственно походят на своих родителей. У львов рождаются львята, у кошек котята, у волков волчата, а у зайцев — зайчата. То же, хотя и не в такой мере полноты и обязательности, происходит и с родами в искусстве. Головки Грёза не могли быть написаны Луини, и ни у того, ни у другого не встретите женского лица, которое вы можете видеть на сотне картин Рубенса. Каждый привержен своему. У каждого художника своё понимание прекрасного, свой глаз, свой навык руки, свой слух, свой характер; частицы всего этого автор с неотвратимой фатальностью передаёт своим героям, персонажам своих произведений.
А если автор не всегда склонен признавать своих детей и общность с ними, а случается, и резко отрекается от них — что ж, это ведь дело поведенческое, иногда дело минуты или настроения, а иногда и акт политический. Следует заметить, что художник ещё в силу особых законов творчества, которые, случается, выше его, может работать и против себя и своих воззрений, как было с Бальзаком, на что в своё время указал Фридрих Энгельс, говоря, что Бальзак иной раз идёт «против своих собственных классовых симпатий и политических предрассудков».
Пуповина между автором и его творением всегда существует, хотя она иногда перерезается прежде того момента, когда мы это можем заметить.
Впрочем, случается, что автор вовсе и не хочет скрывать своего родства с героем. Флобер, например, прямо говорил: «Госпожа Бовари — это я». Ему вторит Сезанн: «Я и моё полотно — мы одно целое». Сент-Экзюпери утверждает: «Ищите меня в том, что я пишу».
Гёте говорит о том же в более общей и объемлющей многое и многих формулировке: «Творение художника — это он сам. Каждое из них — его автопортрет в том или ином ракурсе. Тут уж не скроешься. Можно вслух высказывать какие угодно мысли, можно обмануть отдельных людей, но в произведениях искусства, независимо от воли автора, остаётся его душа. Книги Шиллера — это сам Шиллер. А Вольтер? Так и видишь его язвительную усмешку. А Сервантес? Разве это не сам Алонзо? Добрый, помогающий беднякам тёплым словом и делом».
К этому высказыванию Гёте можно бы прибавить множество дополняющих его соображений и к именам Шиллера, Вольтера и Сервантеса прибавить множество других имён. Но я назову ещё только одно, которое, полагаю, будет весьма доказательным. Имя это — Максим Горький.
Ни одна из книг Максима Горького не была бы написана, если бы до того Алексей Пешков не исходил Россию вдоль и поперёк своими неустанными ногами, если бы он не пережил и не перечувствовал всего того, что выпало на его долю. Биография писателя, как и биография каждого художника, входит главной составляющей в личность его, а биография и личность вместе с характером и талантом — в произведения его. Это так, и не может быть иначе. Из ничего нельзя сделать что-то. Только то, что полнит автора, полнит и его произведения.
На мой взгляд, это вне всяких сомнений. Но при всём том не следует этот постулат обязательности отражения личности художника в его произведении понимать с излишней прямотой и излишней полнотой. Всегда следует учитывать слова Гёте о том, что произведение художника есть автопортрет его «в том или ином ракурсе».
Это «в том или ином ракурсе» накладывает необходимые ограничения на наши суждения об автопортретности художника в данном произведении. Каждое конкретное произведение имеет в этом смысле свои автопортретные границы, которые диктуются известным «ракурсом» автопортретности. Не в каждом своём произведении художник отражён полностью, не в каждом исчерпывающим образом автопортретен. Напротив, ни в одном отдельно взятом произведении художник не может выразить, рассказать, написать себя полностью. В каждом из них — лишь какой-то доминирующий в данном случае «ракурс», лишь некоторые черты личности автора; полностью же выражен и нарисован автор лишь во всём своём творчестве, взятом в целом.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Сумка волшебника"
Книги похожие на "Сумка волшебника" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Илья Бражнин - Сумка волшебника"
Отзывы читателей о книге "Сумка волшебника", комментарии и мнения людей о произведении.