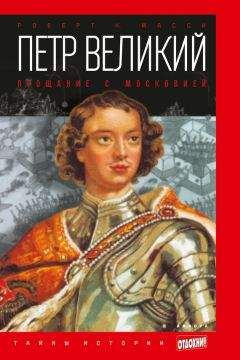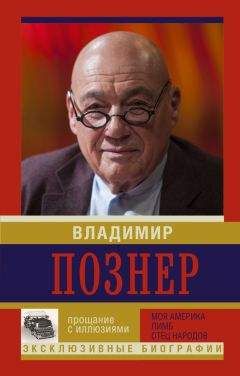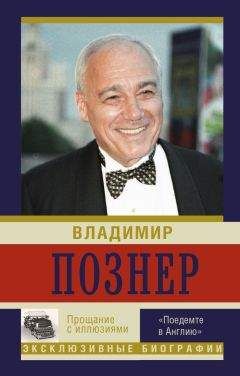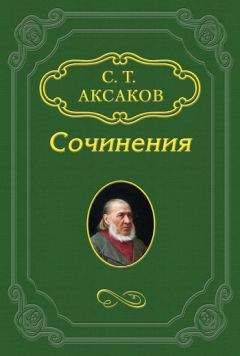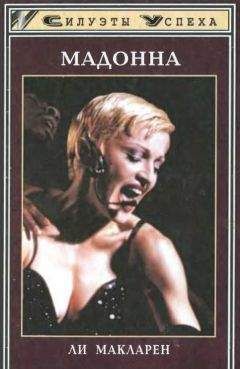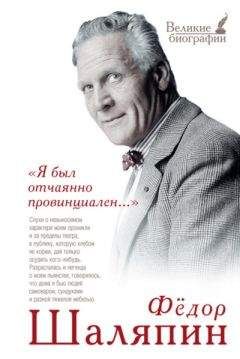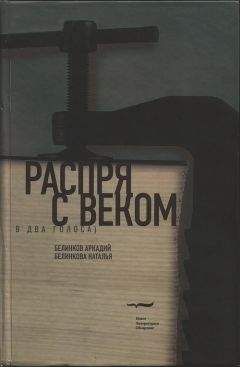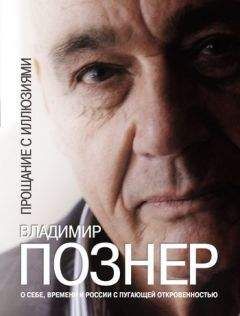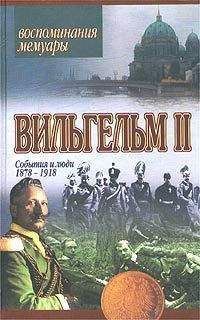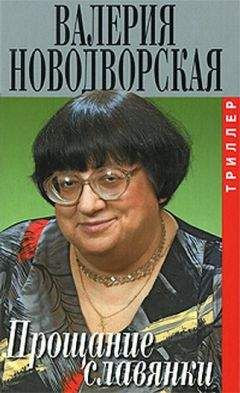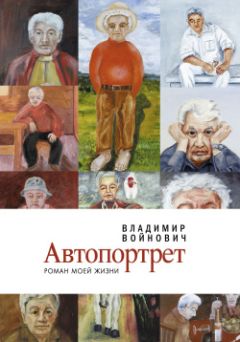Александр Плонский - Прощание с веком
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Прощание с веком"
Описание и краткое содержание "Прощание с веком" читать бесплатно онлайн.
Я живу одновременно в двух веках — двадцатом и двадцать первом. Точнее — тело мое пребывает в двадцать первом, а душа по-прежнему в двадцатом. И неудивительно: все самое интересное и значительное, что было в моей, насыщенной событиями, жизни связано именно с ушедшим столетием. И эта книга — своеобразное прощание с ним. Но ее нельзя считать мемуарами. Мемуары пишутся, что называется, задним числом. Что-то «реставрируется» по памяти, что-то присочиняется. Здесь же, как говорят нумизматы, не «новодел», а оригинал. Поначалу я просто хотел скомпоновать в одно целое главы, не вошедшие по произволу редактора в книгу «Прикосновение к вечности» (Омское книжное издательство, 1985). И вначале не придумал ничего лучшего, чем дать своим запискам банальное название «О времени и о себе»…
Не буду утомлять читателя подробностями. Скажу только, что меня, как говорится, черт дернул придумать «перпетуум мобиле» — вечный двигатель. Разумеется не в прямом, а в переносном смысле слова. Ведь все, что невозможно, ассоциируется именно с вечным двигателем.
Итак, меня угораздило изготовить и положить в основу диссертации прибор, над созданием которого безуспешно трудился целый отдел другого НИИ. У них не получилось. А раз не получилось, то значит — невозможно.
Защита моей диссертации происходила в «третьем» НИИ (в нашем диссертационного совета не было). Все шло гладко, пока «конкуренты» не заявили, что мой эксперимент подложен, а созданный мной прибор — фикция. «Этого не может быть, потому что не может быть никогда!» Перед внутренними взорами членов Совета предстали весы: на одной чаше — «кустарь-одиночка» со своим «вечным двигателем», а на другой — творческий коллектив целого отдела, подтвердивший упорным коммунистическим трудом невозможность «перпетуум мобиле».
Первым оппонентом у меня был воистину великий ученый — профессор Семен Эммануилович Хайкин, создавший в тридцатые годы в соавторстве с академиком Андроновым и профессором Виттом фундаментальную «Теорию колебаний». Поскольку «бог троицу не любит», Витта расстреляли, и несколько изданий «Теории колебаний» вышли только за двумя подписями.
Незадолго до моей защиты Хайкин опубликовал еще один капитальный труд — «Механику». На его (и мою) беду книгу прочитал другой великий ученый — крупнейший специалист и в языкознании, и во всех прочих науках — Иосиф Виссарионович Сталин. Прочитал и вынес вердикт: книга порочная, идеалистическая. К счастью, репрессий не последовало (помните, я писал, что никто из моих коллег не был репрессирован?). Но своим «корешком» «Механика» ударила и по мне…
Тогда я не был закаленным бойцом (им стал впоследствии). Вместо того чтобы сказать:
«Уважаемые члены Совета! Прервите, пожалуйста, защиту, образуйте комиссию для проверки моих результатов. Если ее решение окажется отрицательным, возобновлять защиту не придется, и в кандидатской степени мне автоматически будет отказано. Если же результаты подтвердятся, то зачтите это в мою пользу…» Я же только бил себя в грудь, клянясь, что результаты правильны…
Встал Хайкин и сказал примерно следующее: «Если возникли сомнения в достоверности результатов диссертации, то, получив автореферат, надо было немедленно сообщить о них Совету. А после драки кулаками не машут».
На это председатель Совета ответил так: «Профессор Хайкин! Иосиф Виссарионович Сталин дал справедливую оценку вашей порочной идеалистической книжке. Прискорбно, что вы вдобавок выступаете в роли зажимщика критики. Переходим к голосованию».
В наступившей тишине раздался треск: — мой научный руководитель, один из пионеров отечественной радиолокации Борис Константинович Шембель сломал удочку для подледного лова рыбы. Он был страстным рыбаком и, будучи уверен в моем успехе, собирался до банкета часок-другой половить рыбку.
Эксперименты проводились на глазах Бориса Константиновича, но по тогдашним правилам научный руководитель, выступив в начале, затем не имел права открыть рта. Мой главный свидетель сидел с «завязанным ртом» и мог только в знак протеста и досады переломить о колено бамбуковое удилище.
С разницей в один голос я был «провален».
Семен Эммануилович Хайкин, сам член ВАК, тут же предложил мне немедленно обжаловать решение Совета: «Ручаюсь, оно будет отменено!».
Но на меня напала такая депрессия, что ни о каком обжаловании я не мог и думать. Хайкин этого мне не простил. С тех пор мы не виделись.
Через месяц депрессия прошла, а беспристрастная комиссия не только подтвердила мою правоту, но и несколько улучшила результаты.
Мне было предоставлено почетное право сделать доклад о своем приборе в конференц-зале Политехнического музея. «Конкуренты» при встрече чуть ли не бросались мне на грудь: «Вы, дорогой, сами виноваты… если бы вовремя ознакомили… привлекли… Мы бы вас горячо поддержали!
Время летит, как известно, быстро. Прошли зима, весна. Наступило лето. Повторная защита была назначена на осень (нужно было еще успеть «подновить» диссертацию, отпечатать и разослать автореферат). В июле 1952 года я осуществил право, гарантированное Сталинской конституцией, — уехал отдыхать в Крым. Там меня застал свежий номер «Правды» с постановлением ЦК КПСС и Советского правительства о необходимости ужесточить требования к диссертациям. Сердце мое екнуло. И не зря.
По приезде домой я распечатал письмо, в котором меня уведомляли, что назначенная на сентябрь защита состояться не может, поскольку номерные НИИ лишены права принимать открытые диссертации.
И началось хождение по мукам, продолжавшееся 4 (четыре!) года. Многие диссертационные Советы были расформированы. Другие боялись подобной участи и потому принимали диссертации только у «своих». Меня все время «отфутболивали»: дескать, диссертация не соответствует профилю Совета.
А потом… Мне предложили сделку: если я соглашусь (не имея ученой степени!) возглавить кафедру в Новосибирском электротехническом институте связи, то уже через несколько месяцев мне организуют защиту в Московском электротехническом институте связи. Так оно и произошло.
Точнее, произошло действо, напоминавшее комедию. Вся защита продолжалась 40 минут. Мне, несмотря на мои мольбы, не задали ни одного вопроса. Потом выступил профессор, заслуженный деятель науки Николай Иосафович Чистяков (впоследствии я удостоился чести быть соавтором двух его книг), сказал буквально несколько слов вроде: «Все мы знаем, при каких обстоятельствах…» А через пару месяцев я уже получил «корочки» кандидата технических наук.
Думаете, только мне приходилось «прошибать лбом стену»? Сошлюсь на опыт жены.
Здесь надобно пояснение. Моя жена — Тамара Васильевна Плонская — работает профессором кафедры технических средств судовождения. Она мой постоянный соавтор. А тема нашей многолетней совместной работы хотя и специфична, но граничит с фантастикой, и потому расскажу о ней в одной из последующих глав. И еще о жене (простите за откровенность!). Она моложе меня на 20 лет, 33 года живем душа в душу. Была моей студенткой (но не аспиранткой!). Автор десятков научных статей, книг и учебных пособий.
Кандидатскую диссертацию защитила ровно двадцать лет назад, в 1982 году. Тема — на стыке радиоэлектроники и вычислительной техники. С одной стороны, это приветствуется, ведь именно на стыке наук делаются самые неожиданные открытия. С другой стороны, специализированный диссертационный Совет имеет право принимать диссертации лишь по определенной, строго «очерченной» специальности.
И жена обращалась в диссертационные советы Московского энергетического института, Московского высшего технического училища, Московского станкоинструментального института и Рязанского радиотехнического института. Всюду ее принимали в высшей степени благожелательно, внимательно знакомились с диссертацией, обсуждали на кафедрах, даже давали хвалебные отзывы! Но в первых трех случаях следовал все тот же ответ: «не наша специальность». И лишь Совет Рязанского радиотехнического института был наделен правом принимать защиты как по радиоэлектронике, так и по вычислительной технике! Счастливое совпадение! Но сколько нервных клеток понадобилось, чтобы, наконец, «выпала счастливая карта»!
Я вовсе не хочу сказать: вот как надо «посвящать в кандидаты наук»! Требовательность должна быть в разумных пределах, а ими-то в «мое» время зачастую пренебрегали, видимо, по принципу: лучше не пустить в кандидаты (или в доктора) достойного, чем распахнуть двери перед недостойным… Но стоит ли впадать в другую крайность?
А теперь расскажу, как стал доктором наук. В научном мире существует поговорка: «кандидатскую диссертацию делает доктор, а докторскую — кандидат». Несмотря на кажущуюся ее нелепость, в ней есть толика здравого смысла. Традиционный путь в кандидаты наук — через аспирантуру. И если научный руководитель аспиранта относится к своим обязанностям неравнодушно, то он опекает своего подопечного — подсказывает идеи, помогает преодолеть «подводные камни», отсекает лишнее, ошибочное.
Будущий же доктор наук предоставлен самому себе. Докторская степень в науке — наивысшая. Ранг академика почетнее, но не выше, чем доктора наук — эти понятия относятся к разным категориям. Кандидат наук, претендующий на степень доктора, не нуждается в руководителе. Он должен рассчитывать только на себя, свои знания, интеллект, научную эрудицию.
По описанным причинам я стал кандидатом наук поздно — в 31 год. А уже в 35 представил к защите в Совет Киевского политехнического института докторскую диссертацию. Все шло идеально: оппоненты — даже не два, а три доктора наук дали превосходные отзывы. Был разослан автореферат, назначен день защиты. А затем вмешался злой рок…
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Прощание с веком"
Книги похожие на "Прощание с веком" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Александр Плонский - Прощание с веком"
Отзывы читателей о книге "Прощание с веком", комментарии и мнения людей о произведении.