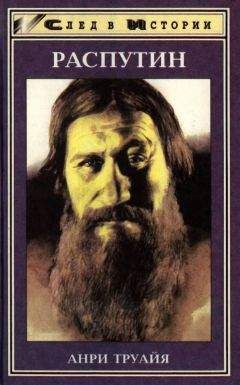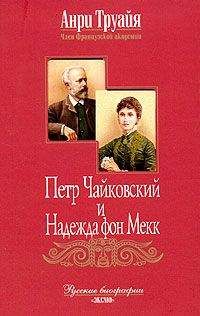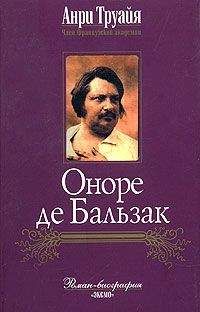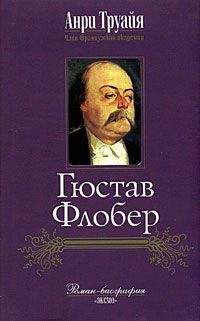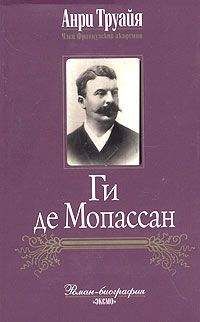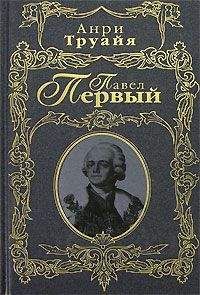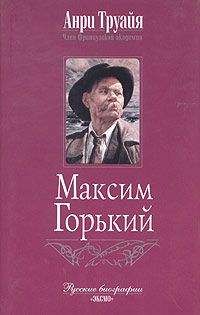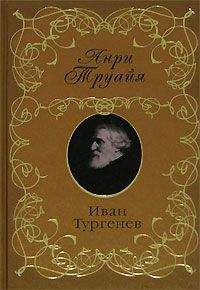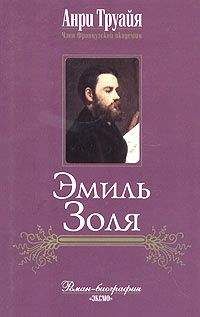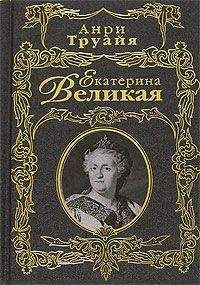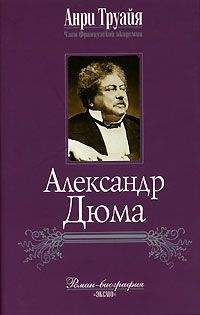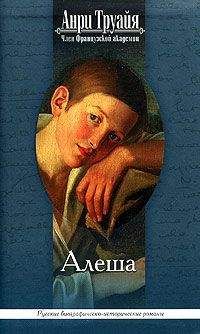Анри Труайя - Николай II
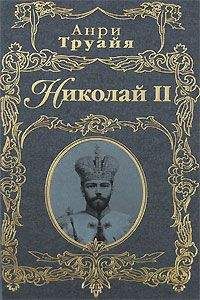
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Николай II"
Описание и краткое содержание "Николай II" читать бесплатно онлайн.
Последний российский император Николай Второй – одна из самых трагических и противоречивых фигур XX века. Прозванный «кровавым» за жесточайший разгон мирной демонстрации – Кровавое воскресенье, слабый царь, проигравший Русско-японскую войну и втянувший Россию в Первую мировую, практически без борьбы отдавший власть революционерам, – и в то же время православный великомученик, варварски убитый большевиками вместе с семейством, нежный муж и отец, просвещенный и прогрессивный монарх, всю жизнь страдавший от того, что неумолимая воля обстоятельств и исторической предопределенности ведет его страну к бездне. Известный французский писатель и историк Анри Труайя представляет читателю искреннее, наполненное документальными подробностями повествование о судьбе последнего русского императора.
И то сказать, несмотря на все сотрясения воздуха в Таврическом дворце, 3-я Дума – «господская» – ни в чем не стесняла реакционную политику правительства. Напротив, она служила некоторым министрам конституционным алиби. Николай не больно-то принимал ее в расчет: он откровенно поведал германскому военному атташе капитану фон Гинце все, что он о ней на самом деле думает. «Трехлетний опыт показал мне, что Дума может быть полезна как предохранительный клапан, ибо там каждый может высказать все, что накипело у него на сердце. Но она не должна располагать решающим голосом. Решать – мое дело. Толпам нужно, чтобы их вел сильный и твердый человек. Я здесь хозяин».[195]
А так ли это было на деле? Конечно же, он презирал Думу и часто выказывал невосприимчивость к советам своих министров – но лишь для того, чтобы внимательнее прислушиваться к окружающим его интимнейшим друзьям: своей благоверной, нескольким Великим князьям и с недавнего времени – Распутину. Вышеупомянутый, как нам известно, последовал за царской семьей в Крым и поселился там в лучшем отеле в Ялте, где принял пожаловавших с визитом Анну Вырубову и многочисленных дамочек, наслаждавшихся курортной жизнью на Черноморском побережье. Его фотографии продавались в магазинах как любопытные курьезы. Царь с царицею обитали неподалеку, в своем дворце в Ливадии. А тут новая беда: у царевича в результате падения снова открылось подкожное кровотечение, и снова императрица зовет Распутина на выручку. И снова магнетические пассы и молитвы «старца» исцеляют ребенка. Когда свершилось это чудо, Александра Федоровна с еще большей яростью накинулась на тех, кто осмеливался поносить старца. Поскольку в прессе развернулась новая кампания против «святого человека», она сделала выволочку министру внутренних дел Макарову за то, что тот не сумел обуздать пишущую братию, и добилась у своего благоверного снятия его с должности как не справившегося со своими обязанностями. Одновременно с этим она затаила язвительную злобу на Коковцева, который не побоялся представить Его Величеству неприглядный доклад о ее духовном наставнике. Со своей стороны, Распутин обвинял министра в «спаивании народа» путем расширения продажи водки,[196] которая оставалась государственной монополией еще со времен Витте. Подстрекаемый своей дражайшей Аликс и Распутиным, Николай принял решение дать отставку этому совестливому и целостному служителю престола. «С тяжелым чувством вошел я в приемную государя и после минутного ожидания в ней – в его кабинет», – вспоминал Коковцев о своей последней аудиенции у самодержца. Здесь опальный сановник как никогда осознал «трудное положение государя среди всевозможных влияний безответственных людей, зависимость подчас крупных событий от случайных явлений. Когда я вошел в кабинет, государь… быстро подошел ко мне навстречу, подал мне руку и, не выпуская ее из своей руки, стоял молча, смотря мне прямо в глаза… вынул левой рукой платок из кармана, и из его глаз просто полились слезы».[197]
Замену отставленному министру Николай подобрал опять-таки по совету супруги и ее духовного наставника. Пост председателя Совета министров занял 74-летний Иван Горемыкин (который уже успел провалиться с треском в 1906 году и сам себя сравнивал со «старой шубой, вынутой из нафталина»); ну а Министерство финансов возглавил Петр Барк, причем в высочайшем рескрипте на его имя было указано: «Нельзя ставить в зависимость благосостояние казны от разорения духовных и хозяйственных сил множества Моих верноподданных», которое государь относил прежде всего на счет пьянства.
Новые назначения дали новые козыри консерваторам и знаменовали собою ужесточение реакции. Между тем 4-я Дума, созванная еще при премьерстве Коковцева (15 ноября 1912 года), дала большинство правым националистам при условии, что те объединятся с «октябристами». Тем не менее, несмотря на то что избирательный закон был благоприятным для властей, в думском зале насчитывалось 128 кадетов, прогрессистов и «автономистов», 10 «трудовиков» и 14 социал-демократов, в том числе 6 большевиков. Эта ассамблея, как и предыдущая, сотрясала воздух речами и дискуссиями и затем ратифицировала принимаемые акты. Конечно, дебаты народных представителей заполняли столбцы газет; да только ведь мало кто прочитывал их целиком и до конца. Дума, которая прежде приковывала к себе внимание потрясенной публики, теперь стала всем поперек горла своими бесконечными словесными перепалками. Разочарованное парламентаризмом высшее общество отдавало предпочтение монархии в том виде, в каком она воплощалась в Николае II.
При вcем этом русскому народу в такой степени присуща потребность верить, почитать, восхищаться, что это не могло не вызвать бурю энтузиазма в феврале 1913 года, когда с особой пышностью праздновалось 300-летие Дома Романовых. Многие, веря в магическую силу круглых дат, ожидали возрождения славы России. Но во время торжественного благодарственного молебна, который служил в Казанском соборе в Санкт-Петербурге патриарх Антиохийский, присутствующие более всего жаждали знать, находится ли в толпе верующих Распутин. «Каждый стремился увидеть, заметить старца, – пишет генерал Александр Спиридович, – и тут же принимались обмениваться пересудами и сплетнями». Во все продолжение церемонии императрица с тиарой на голове – «настоящая статуя из ледяного презрения», как охарактеризовала ее княгиня Катрин Радзивилл, не спускала глаз со своего сынишки – такого тщедушного, такого бледного; он воплощал в себе будущее династии, за его хрупкое здоровье она тряслась постоянно, каждое мгновение… Через два дня после службы в Казанском соборе в Колонном зале Дворянского собрании состоялся блистательный бал, на котором присутствовала императрица, в короне и в бриллиантах. «Она блистала красотою, – писала Катрин Радзивилл, – но эта красота мало того что не привлекала присутствующих, так они еще чувствовали себя отторгнутыми ее холодными и антипатичными манерами». Те же гости собрались на гала-представлении в Мариинском театре. Давали «Жизнь за царя» Глинки. Роль молодого царя исполнял Собинов; на роль Сусанина приглашали Федора Шаляпина, но тот сказался больным, чтобы уклониться от участия. В знаменитой мазурке второго акта государь аплодировал Анне Павловой и своей бывшей возлюбленной Матильде Кшесинской, которая от спектакля к спектаклю становилась все воздушнее, все грациознее… Торжества не ограничились столицами – с наступлением весны государь со своей семьей, несмотря на недомогание царицы и наследника, предпринял поездку по средней России. 15 мая венценосная семья отбыла из Царского Села и проехала через Москву во Владимир, оттуда на автомобиле в Суздаль; далее следовал высочайший круиз на пароходе из Нижнего Новгорода по Волге в Кострому и Ярославль. Ожидалось, что по случаю столь памятного юбилея государь объявит всеобщую амнистию политическим заключенным; но на свободу вышли лишь немногие преступившие общее право. Даже приверженцы монархии сочли такую строгость чрезмерной. «С первых же дней эти торжества принесли разочарование», – признался даже такой до мозга костей преданный монарху солдафон, как генерал Спиридович.
Если в вопросах внутренней политики Николай предпочитал полагаться на собственный инстинкт и на советы своих близких, то в области внешней политики он продолжал хранить доверие к Александру Извольскому – выдающемуся и рассудительному государственному мужу, в котором врожденный национализм уравновешивался четким пониманием нужд европейцев. После заключения соглашения, а затем договора об альянсе с недавним врагом – Японией, министр подписывает 31 августа 1907 года конвенцию с Англией, которая разграничивала зоны влияния обеих империй в Азии. Встреча Николая со своим «дядюшкой Берти» – королем Эдуардом VII – на рейде в Ревеле (ныне Таллин) в июне 1903 года продемонстрировала всему миру забвение прежних размолвок и начало нового союза. Поднимая бокалы, два венценосца провозгласили, что, действуя таким образом, они утверждают в согласии с Францией укрепление всеобщего мира. Но образовавшийся союз трех держав укрепил и еще кое-что, а именно – преследовавшую Германию навязчивую идею, что страна находится во враждебном окружении. Германская пресса язвительно комментировала эту «безумную авантюру». «России никогда не приходилось относиться к Германии иначе, как восторженно, – писала газета „Нойе фрайе прессе“, – тогда как Англия, которой Россия обязана катастрофой в Маньчжурии, всегда была и всегда будет в союзе с врагами России, кем бы таковые ни были».
Эти протесты ничуть не поколебали решимости Извольского. Он рассчитывал, что дружба с Англией и Францией даст ему большую свободу действий на Ближнем Востоке. Своею целью он ставил добиться открытия проливов, чтобы русский флот мог свободно проходить из Черного моря в Средиземное и обратно. Лелея эту надежду, он обратился в правительственный кабинет Вены и встретился в Бухлау со своим австрийским коллегой Эренталем. Последний настоял, чтобы в обмен за то, чтобы Австрия поддержала позицию России в этом вопросе, Россия, в свою очередь, поддержала Австрию в вопросе аннексии Боснии-Герцеговины. Три недели спустя, хотя ничего еще формально не было решено, Франц-Иосиф подписывает декрет об аннексии (5 октября 1908 г.). В тот же день князь Фердинанд Болгарский принимает титул царя и провозглашает независимость своей страны, что явилось успехом австро-венгерской дипломатии, близость которой с новым болгарским владыкой была очевидна. В Сербии и в России аннексия Австрией Боснии-Герцеговины вызвала волну возмущения: сербы восприняли это как акцию запугивания в их адрес. В Думе и в независимой русской прессе с настойчивостью раздавались требования защитить братьев-сербов от австро-венгерской угрозы. Но эти призывы не нашли отклика по ту сторону российских границ. Ни Франция, ни Англия не хотели впутываться в эту историю. Что же касается Германии, то она отбросила напрочь любую мысль о международном соглашении и подстрекала Австро-Венгрию предъявить ультиматум Сербии. Этой последней было предъявлено требование признать аннексию Австрией Боснии-Герцеговины и в три дня демобилизовать свою армию. Извольский предпринял попытку вмешаться, чтобы остудить страсти; но теперь уже Германия бросила свой меч на весы. Она в ультимативном тоне предписала России безусловно повиноваться требованиям Австро-Венгрии под угрозой вооруженного вторжения.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Николай II"
Книги похожие на "Николай II" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Анри Труайя - Николай II"
Отзывы читателей о книге "Николай II", комментарии и мнения людей о произведении.