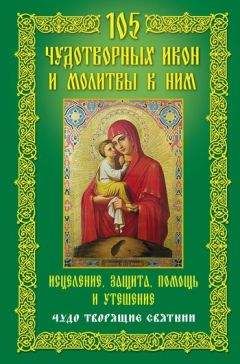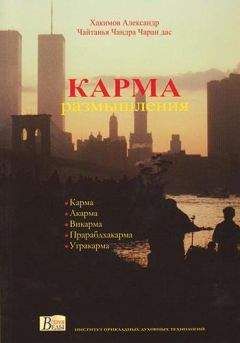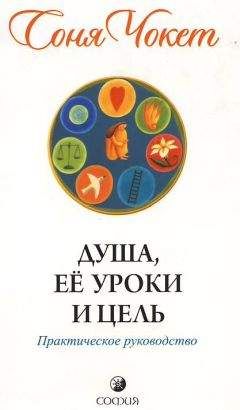Андрей Кураев - Уроки сектоведения. Часть 2.
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Уроки сектоведения. Часть 2."
Описание и краткое содержание "Уроки сектоведения. Часть 2." читать бесплатно онлайн.
Я обращаюсь не к монахам, но совсем к иным читателям. Те люди, ради которых написана эта книга, болеют именно верой — точнее, суеверием. В порыве своей совести возжаждав истины, они обратились не к Евангелию, а к мишурным книжкам карма-колы. Их души, вскормленные на тощих хлебах “атеистической духовности”, и прежде были не слишком здоровы (да и “деятельной любви” их учили не так уж настойчиво). Прельщенные же оккультизмом, они лишь плотнее затянули повязки на своих глазах. Атеизм сменился язычеством. Насколько выветрилось представление о Боге из сознания людей, можно судить по такому высказыванию женщины, занимающейся вышиванием золотошвейных икон: “Я чувствую — если энергетика из Космоса сильна (я так называю вдохновение), значит, пора за работу”.
Да, и те слова, что принимаются богословием, остаются именно человеческими словами. Среди них могут быть такие, которые совсем не приложимы к Богу, а есть такие, которые, скажем так, - терпимы. “Поскольку слово “единосущный” менее может быть извращаемо, стою за это слово”, - открывает тайну бого-словия св. Василий Великий{115}.
Думающий мистик - это человек, который, не отводя глаз от Бога, открывшегося в сердечной глубине, подносит к ним стеклышки слов и через них пробует смотреть на опыт своего сердца: достаточно ли это слово прозрачно? Довольно ли оно пропускает лучей и оттенков? Или оно слишком мрачно, слишком самодостаточно и самовольно, непослушно? Человек перебирает слова, сверяет их со своим сверхсловесным опытом и разочарованно откладывает: Нет, не то... Не то... Не то...
Молчащее, апофатическое, отрицающее богословие переходит в положительное тогда, когда оно не ограничивается работой с “идеей Абсолюта”, а принимается осмыслять и воплощать в словах не только опыт разума, но и опыт сердца. Разум говорит: Божество не вместимо в категории человеческого рассудка. Сердце же подсказывает: но Он Сам вместился в меня, Он вошел в меня, коснулся меня... И тогда, если философ поверит не только таблице своих категорий, но и опыту сердца, он задаст себе вопрос Августина: “Что же люблю я, любя Тебя?”{116}
Уже вернувшись в мир обыденного опыта, человеческое сердце вспоминает о пережитом, и в привычном мире испытующе подходит ко всему и спрашивает: “Это с тобой я встретилось? Это в тебе причина моей тогдашней радости и теперешней неполноты?”. Через эту тоску тоже совершается Богопознание. Тоска – это любовь, ищущая достойного предмета. Она подходит к вещам и испытывает: "Ты ли это? Можешь ли ты мне дать ту радость и исполненность моего бытия?".
Кого только не вопрошает человек об этом! К спорту и к семье, к работе и к искусству, к народу и к природе обращается он с тем же требованием: дай мне смысл, помоги мне считать тебя абсолютной ценностью. И все они должны признаться: нет, это не мы... “А что же такое этот Бог? Я спросил землю, и она сказала: “это не я”, и все, живущее на ней, исповедало то же. Я спросил море, бездны и пресмыкающихся, и они ответили: “мы не бог твой; ищи над нами”. Я спросил у веющих ветров, и все воздушное пространство с обитателями своими заговорило: “ошибается Анаксимен: я не бог”. Я спрашивал небо, солнце, луну и звезды: “мы не бог, которого ты ищешь”, - говорили они. И я сказал всему, что обступает двери плоти моей: “скажите мне о Боге моем - вы ведь не бог, - скажите мне что-нибудь о Нем”. И они вскричали громким голосом: “Творец наш, вот кто Он”. Мое созерцание было моим вопросом, их ответом - их красота” (Августин) [{117}].
Но порой слово само находит свое место. Подсказывается ли оно незаметно Извне. Или звучит прямо из уст Того, к Кому обращено сердце человека. Или вдруг срывается с языка как нечаянное любовное признание. Или подсказывается другим человеком, еще прежде пережившим подобное состояние. Но вдруг молчание кончается. Появляется слово, которое не заслоняет Бога, но направляет ум к Нему.
Так человек, пережив душевный опыт (красоты или сострадания, влюбленности или гнева), находит стихотворную строку, путь даже написанную другим, но в эту минуту воспринятую им как будто сказанную специально о нем. И затем, спустя дни и годы, повторяя эту строку, он приводит себе на ум и то переживание, с которым она была для него связана и хотя бы отчасти вновь впадает в то состояние "понимания". Паре, уже давно прошедшей через время первой любви и первых встреч, случайно встретившийся цветок, сорванный на первом свидании и засушенный в книге, может напомнить о том, что было когда-то. Сам высохший цветочек уже давно потерял все свои краски - но он дорог тем, что позволяет снова посмотреть друг на друга теми же глазами. Так и слова о Боге, хотя и не могут заменить само ощущение близости Бога, но могут направить душу к поиску этой близости. Они могут быть использованы в молитве, то есть - в призыве.
Мы - люди. И говорим ли мы о Боге - говорим по человечески. Молчим ли мы о Нем - молчим тоже по человечески. Не надо этим смущаться. В конце концов, вся философия началась с осознания этого обстоятельства. Оказывается, на человеке лежит "проклятие Мидаса". Этот фригийский царь однажды добился согласия Диониса исполнить его заветное желание: все, к чему ни прикасался Мидас, отныне превращалось в золото. Но вместо того, чтобы сделать златолюбца счастливым обладателем несметных богатств - этот дар богов сделал его несчастнейшим из людей. Ведь даже хлеб и вода, к которым прикасался Мидас, становились золотыми, а, значит, несъедобными...
Так все, чего ни касается человек, становится "человеческим". Оно перестает быть "в себе", оно становится чем-то "нашим". Каков мир без человека? Мы не знаем и не можем знать. С этого обескураживающего открытия начинается философия, с него начинается развитие методов научного познания и научной критики. Начинается - но отнюдь не кончается. И в итоге оказывается, что все не безнадежно. Человек может выработать методы, умеряющие его предвзятость и субъективность. Хоть и говорим мы обо всем человеческими словами, но мы можем различать эти слова между собой, отбрасывая одни слова и теории как слишком предвзятые и субъективные, а другие приемля (хотя бы на время) как такие, которые впускают в себя и нечто объективное.
В этом отношении богословие всего лишь обычная часть человеческой культуры, которая в своей сфере встречает ту же проблему, что и все остальные. Но встретить проблему не значит капитулировать перед ней. Как в познании мира и человека исследователь должен найти средства для того, чтобы вырваться из плена своей субъективности – так и в богословии. Аргументом о том, что «субъективность неизбежна», можно убить не только богословие – им можно убить и науку. Но в течение веков человечество создает технику контроля над своей неизбежной субъективностью, технику ее рефлексии, осознания. Тем самым оно учится вносить необходимые коррективы в свою картину мира.
Не надо бояться того, что мы люди. Разговоры о непостижимости и о молчании могут оборачиваться просто-таки терроризмом. Елена Рерих, провозгласившая лозунг "необходимо выдвинуть претворение буддизма в ленинизм"{118}, так осаживает попытки заговорить прямо о Боге: "Восток запретил всякое обсуждение Неизреченного, сосредоточив всю силу познавания лишь на величественных проявлениях Тайны”{119}.
Как видим, апофатика может быть воинственной. Однако, если предположить, что Бог есть любовь, то можно уйти из под этих запретов "Востока". Любовь ищет понимания. И потому Бог есть Слово, есть обращенность. Непостижимое само высказало себя - а потому уже нет нужды всегда и во всем соглашаться с тютчевским Silentium'ом[37]: “я не принадлежу к числу тех запуганных, которые все изреченное мнят ложью” (Вяч. Иванов){120}.
Да, наши слова человечны, а наши представления о Боге антропоморфичны (человеко-образны). Но разве кто-нибудь знает не антропоморфный сектор нашей культуры? Какими образами и словами должны мы заменить обруганный «антропоморфизм»? Какие представления должны придти на смену человеко-образным? - Амебо-образные? Жирафо-образные? Марсиано-образные? Поэтому не надо ругаться словом "антропоморфизм".
Мы не можем говорить на ином языке, нежели человеческом. Не можем говорить не по человечески ни о мире элементарных частиц, ни о Боге: «Мы часто в своих рассуждениях приписываем Богу человеческое, но это просто потому, что у нас нет другого языка»{121}.
Задача культуры в целом – очеловечить мир, в котором мы живем. Путь очеловечивания – это путь расстановки ориентиров (ориентиры возникают как наложение человеческих интересов на не-человеческий мир). Эти ориентиры создаются через наречение имен. Человек своими, человеческими именами называет мир, в который он входит.
Антропоморфизм бывает разный. Он бывает неосознанным, когда человек действительно слишком наивно и слишком примитивно проецириует свои предпочтения и предположения в мир иной. Человек еще не осознал тайны своей субъективности. Он еще не отделяет себя от мира, считая себя всего лишь частичкой окружающего космоса, и потому, не понимая своей уникальной инаковости, своей неотмирности, не задумывается над тем, как его инаковость влияет на его восприятие того мира, который лежит совсем в ином измерении, чем он сам. Свои действия и свои мысли, свою речь он воспринимает как нечто «естественное», как нечто, что само собой разумеется. Весь мир для него естественно человечен, а сам человек естественно же космичен. Это антропоморфизм примитивного язычества.
Но есть антропоморфизм вторичный, отрефлектированный, осознанный. Он приходит тогда, когда человек прошел через критику понятий, через скептицизм, а затем снова научился ценить человеческие слова и образы. Человек, уже однажды потеряв свои слова и образы, теперь научился вновь их ценить.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Уроки сектоведения. Часть 2."
Книги похожие на "Уроки сектоведения. Часть 2." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Андрей Кураев - Уроки сектоведения. Часть 2."
Отзывы читателей о книге "Уроки сектоведения. Часть 2.", комментарии и мнения людей о произведении.