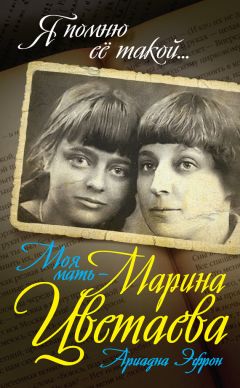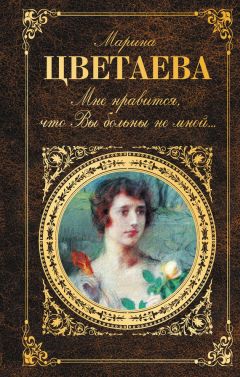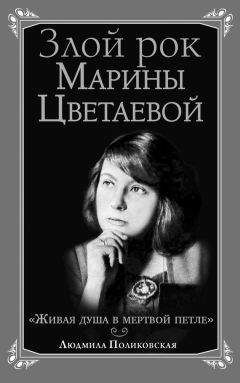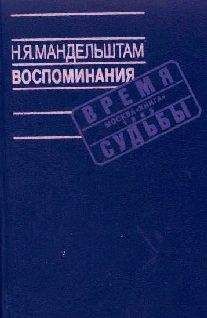Марина Цветаева - Воспоминания о Марине Цветаевой
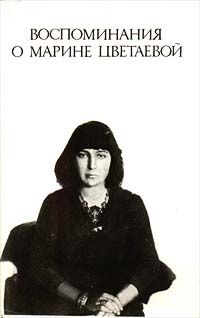
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Воспоминания о Марине Цветаевой"
Описание и краткое содержание "Воспоминания о Марине Цветаевой" читать бесплатно онлайн.
«Единственная обязанность на земле человека — прада всего существа» — этот жизненный и творческий девиз Марины Цветаевой получает убедительное подтверждение в запечатленных мемуаристами ключевых биографических эпизодах, поступках героини книги. В скрещении разнооборазных свидетельств возникает характер значительный, духовно богатый, страстный, мятущийся, вырисовывается облик одного из крупнейших русских поэтов XX века. Среди тех, чьи воспоминания составили эту книгу, — М. Волошин и К. Бальмонт, А. Эфрон и Н. Мандельштам, С. Волконский и П. Антокольский, Н. Берберова и М. Слоним, Л. Чуковская, И. Эренбург и многие другие современники М. Цветаевой.
На этой почве происходили у нее частые столкновения, и она, например, заявляла Тесковой, что я на письма не отвечаю только потому, что мой ответ из Праги в Париж запоздал на несколько дней, — обвинение совершенно несправедливое, я сказал бы, вздорное Это было одно из тех недоразумений, каких было немало за долгие годы нашего общения, всегда сложного и после 1925 года порою двойственного — со стороны МИ, причем дело тут было не в наших спорах. А споры у нас бывали часто, и по самым различным причинам.
Например, в 1932 году МИ очень разволновалась из-за моего случайного замечания о синкретизме всех видов искусств. Я говорил, что различные формы самовысказывания — на одной плоскости, одного происхождения, и, вероятно, жест и танец предшествовали слову и выражают бессознательное, тайное в человеке — Дионисово начало до Аполлона. Как многие близорукие люди с необычайно развитым слухом, Цветаева не видела, а слышала и сама соглашалась, что в этом ее основное различие от Пастернака. Она ничего не унаследовала от отца, директора музея и искусствоведа, и живопись, скульптура и архитектура, танец до нее по-настоящему не доходили — точно так же, как мать-пианистка не внушила ей желания заниматься музыкой. И ей казалось ересью, богохульным выпадом против поэзии сравнение (не мое, я повторял) балета — движения во времени — с архитектурой, застывшим движением в пространстве или застывшей музыкой. «И вы балет сравниваете с Реймским собором!» — воскликнула она в негодовании. И тут пошла новая баталия: я был воспитан на итальянском Возрождении, а МИ — на германской готике, она инстинктивно отталкивалась от Греции и Средиземного моря. В конце концов МИ подтвердила, что не любит всяких там лазурных берегов, а признает лишь океан, а еще больше — горы, вышину. Она мне как-то написала, что для нее высшее наслаждение — подыматься на гору, «все-таки ближе к небу».
Года три после этого разговора я чуть не поссорился с МИ из-за Гронского. Она преувеличенно хвалила его как поэта, а меня его стихи не трогали и мало интересовали. Ее это возмущало, она обвиняла меня в черствости Но порою размолвки наши были более глубокими. Трещина в наших отношениях произошла в конце 1924 — начале 1925 года, когда выяснилось, что у нас нет того идеального согласия — литературного и личного, о каком она мечтала. Да, наши основные взгляды на поэзию, и вообще на творчество слова, совпадали, но ряд моих мнений и оценок расходился с Мариниными, и, несмотря на ее «попытки терпимости», как я их насмешливо называл, она ощущала недовольство и разочарование. Доходило до того, что она величала меня «литературным критиком» — в ее словаре это был бранный термин.
Наша личная дружба тоже прошла через ряд изменений. Она укрепилась в месяцы после разрыва МИ с Родзевичем. Она переживала его трудно, мучительно, и ей нужно было, как она говорила, «дружественное плечо, в которое можно зарыться, уткнуться — и забыться», надо было на кого-то опереться. Ей показалось, что я могу дать ей эту душевную поддержку, тем более что и я в это время разошелся с моей первой женой, и в приблизительном сходстве личных осложнений МИ увидала залог взаимного понимания. Но тут произошло столкновение наших индивидуальностей, темпераментов и устремлений. Во-первых, как обычно, МИ создала обо мне некую иллюзию: она представляла себе меня как воплощение духовности и всяческих добродетелей, совершенно не зная ни моей личной жизни, ни моих наклонностей или страстей или пороков. Поднявшись в заоблачную высь, она недолго в ней парила, и приземление, как всегда, причинило ей ушибы и страдания. Во-вторых, она от близких требовала безраздельной отдачи, безоглядного растворения, включая жертву, причем хотела, чтобы принес ее не слабый, а сильный человек, слабого она бы презирала.
В одном письме к Тесковой в апреле 1929 года МИ откровенно признается: «Раньше я давала, как берут, — штурмом! Потом смирилась. Людям нужно другое, чем то, что я могу дать». Но дело было прежде всего в том, что она сама отбрасывала предложенное другими — она желала большего. Я же не мог принять ни штурма, ни ее абсолютов, сводившихся к отказу от жизни, от самого себя, от собственного пути. Она помнила, как я однажды ответил ей: «Одна голая душа! Даже страшно». Она этого не могла мне простить, а еще пуще ее обижало, что я не испытывал к ней ни страсти, ни безумной любви и вместо них мог предложить лишь преданность и привязанность, как товарищ и родной ей человек. МИ писала: «Я хотела бы друга на всю жизнь и на каждый час (возможность каждого часа). Кто бы мне всегда, даже на смертном одре, радовался». А я знал, что наши жизненные пути не совпадают, только порою скрещиваются и что у нас обоих совершенно неодинаковые судьбы. Отсюда ее ошибочное мнение, будто я ее оттолкнул, более того, променял на ничтожных женщин, предпочел «труху гипсовую каррарскому мрамору» (так она писала в «Попытке ревности»).
А после прославления принялась говорить мне колкости при свиданиях и ругать за глаза. Одно время она это делала почти со злобой, во всяком случае со страстью, со своим всегдашним упорством в последовательности и непоследовательности, в возведении пьедесталов и разрушении статуй. Я знаю, ей это было нелегко, ведь я продолжал помогать ей, чем мог, и защищал ее во всех моих публичных выступлениях. Но прошло несколько лет, прежде чем она сменила гнев на милость и уверовала в надежность моей дружбы.
Жизнь МИ была трагической, и немалую роль в этом сыграли ее одиночество и невозможность длительных связей с людьми. Она, в сущности, была однолюбом и, несмотря на увлечения и измены, по-настоящему любила одного лишь Сергея Эфрона, ее мужа. И потом — когда стало ясным, что он, несмотря на такую же взаимную любовь, не может отказаться ни от своей политической деятельности, ни от самостоятельного, ей чуждого существования — она весь запас неистраченной нежности перенесла на сына. В отношениях с дочерью тоже происходили срывы и охлаждения. А с другими людьми все неизменно рушилось: слишком она была требовательна, слишком «швырялась» друзьями, если они ей чем-либо не угождали, и то возводила монументы, то разбивала их в прах. А некоторых своих знакомых, готовых для нее на все, как-то не замечала — и, быть может, того сама не зная, унижала и отпугивала — холодом и презрительным равнодушием. Но и тех, кто все от нее сносил, она не признавала подлинными друзьями. У нее вспыхивало на миг чувство расположения, общности — например, к Елене Александровне Извольской, к семье кинорежиссера Туржанского, ко второй жене Леонида Андреева, Анне Ильиничне, о которой она рассказывала, что она «огнеокая и по ночам в лесу соловьев руками ловит», к Тукалевским, Лебедевым, — но прочной, постоянной связи не устанавливалось, и чувство ее угасало. Со Святополк-Мирским, сперва ее хулившим, а потом раскаявшимся, у нее была кратковременная дружба, он пригласил ее на две недели в Лондон в 1926 году и до отъезда в Россию помогал финансово, но виделась она с ним редко и случайно. Дружба с Гронским и Штейгером была, как я уже сказал, умственной, а с Тесковой — заочной. Я думаю, что после рождения сына в 1925 году никакой любовной, в широком смысле эротической, жизни у МИ больше не было. Ей минуло тогда 33 года. Во всяком случае, как раз после рождения Мура МИ решила покинуть Прагу и избавиться от чувства провинциальности, которое она там нередко испытывала. Она надеялась, что в Париже найдет и новых друзей, и читателей, и слушателей — и откроет более широкие возможности печататься. Ведь Париж стал после заката русского Берлина столицей нашей эмиграции.
У меня не было уверенности, что МИ найдет во Франции осуществление всех своих планов, но спорить с ней я не хотел, тем более что отъезд ее был сопряжен со множеством практических и денежных трудностей и она просила меня о помощи. В те годы нансеновских паспортов для переезда из одной страны в другую требовались особые разрешения. Я был хорошо знаком с французским консулом и достал для Эфронов необходимую визу. Затем нужно было закрепить за МИ чешскую писательскую субсидию и аванс из «Воли России». Под эти будущие блага Тесковой удалось устроить заем у одной знакомой дамы, и 31 октября 1925 года, временно оставив мужа в Праге, МИ, дрожа и волнуясь, пустилась в путь с Муром и Алей В том же поезде ехала Анна Ильинична Андреева, взявшая на себя всякие пугавшие МИ хлопоты, вплоть до кормления девятимесячного младенца.
Так закончился пражский период жизни Цветаевой. 1 ноября она уже была в Париже, где ей предстояло провести тринадцать лет трудов и мук.
31 октября 1925 года Марина Цветаева, девятимесячный Мур и двенадцатилетняя Аля (Ариадна) приехали в Париж. Их приютила Ольга Елисеевна Колбасина-Чернова, крестная мать Мура. Черновы жили бедно в отдаленном рабочем квартале возле Виллет, напротив канала Урк, и из своих трех комнат одну отдали приехавшим Ольга Елисеевна очень любила Марину Ивановну, ее дочери — молодые девушки Оля, Наташа и Адя — восхищались стихами Цветаевой, смотрели на нее вначале чуть ли не с обожанием, делились с гостями чем могли и старались устроить их как можно лучше. Но МИ особой благодарности к ним не испытывала и как будто не замечала их забот. В письмах называла Черновых «нашими хозяевами» (а ведь это были искренние друзья), жаловалась на тесноту, на шум убогих улиц, на невозможность сосредоточиться. Она увидала Париж фабричной окраины, и после мирной тишины ее деревенских жилищ в Чехословакии окружающая обстановка очень ее подавляла.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Воспоминания о Марине Цветаевой"
Книги похожие на "Воспоминания о Марине Цветаевой" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Марина Цветаева - Воспоминания о Марине Цветаевой"
Отзывы читателей о книге "Воспоминания о Марине Цветаевой", комментарии и мнения людей о произведении.