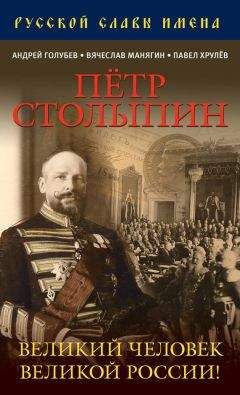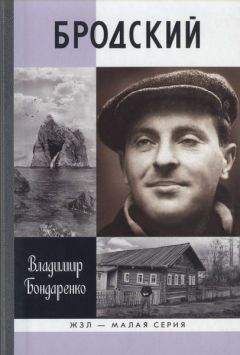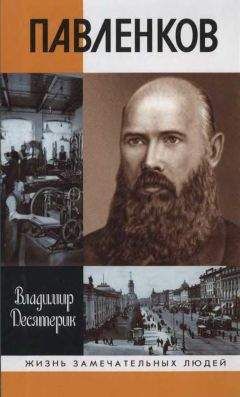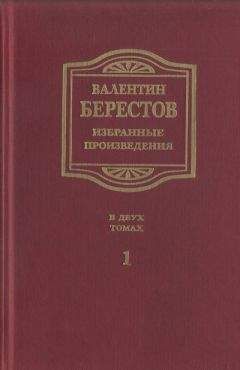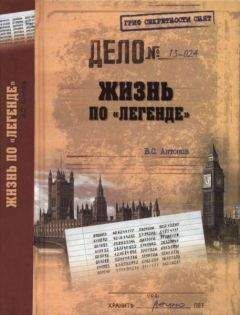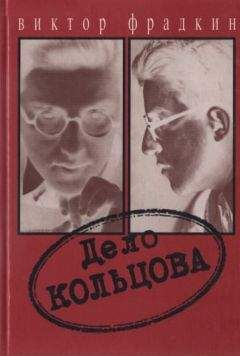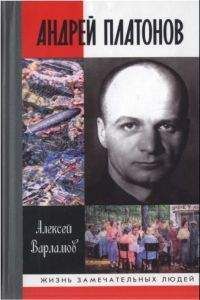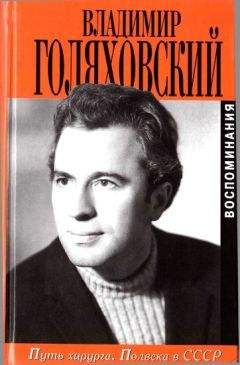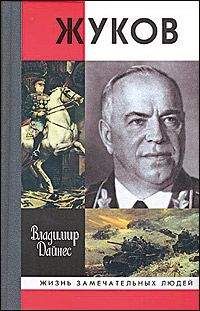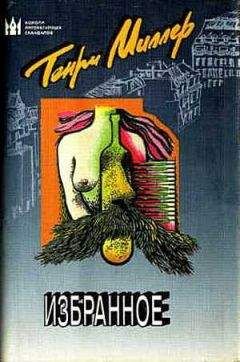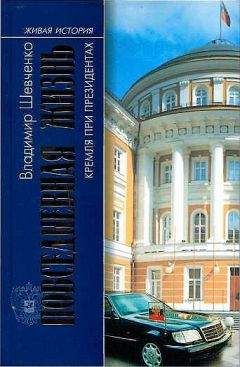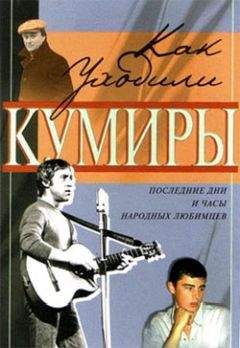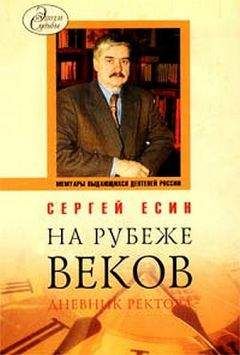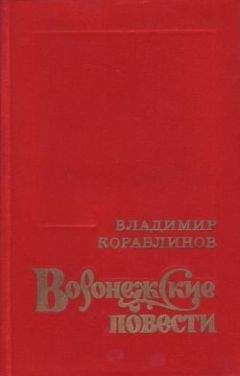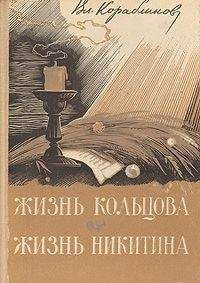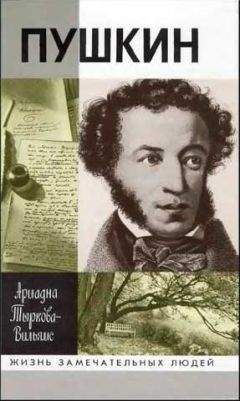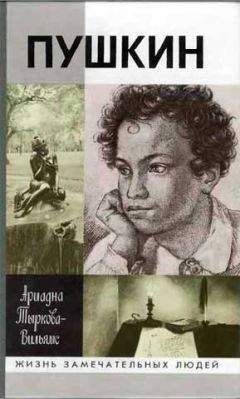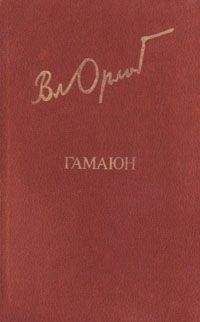Владимир Кораблинов - Жизнь Никитина
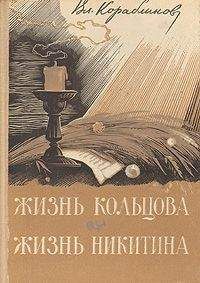
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Жизнь Никитина"
Описание и краткое содержание "Жизнь Никитина" читать бесплатно онлайн.
Владимир Александрович Кораблинов (1906—1989) известен читателям как патриот своего Воронежского края. Не случаен тот факт, что почти все написанное им – романы, повести, рассказы, стихи – обращено к событиям, произошедшим на воронежской земле. Однако это не узко краеведческая литература. События, описываемые в его произведениях, характерны для всей России, нашей великой Родины.
Романы «Жизнь Кольцова» и «Жизнь Никитина» также рассказывают о людях, которыми гордится каждый русский человек. Они – о жизни и вдохновенном творчестве замечательных народных поэтов, наших земляков А. В. Кольцова и И. С. Никитина.
Ах, Анюта, Анюта!
Но однажды Иван Савич усадил ее в кресло, сказал: «Слушай, Аннушка…» – и стал читать только что написанное:
Когда потухший день сменяет вечер сонный,
Я оставляю мой приют уединенный,
И, голову усталую склонив,
Задумчиво иду под тень плакучих ив.
Сажусь на берегу и, грустной думы полный,
Недвижимый гляжу..
Стихи еще были самому непривычны, новы; словно не им сочиненные, они удивительно торжественно, незнакомо звучали. Счастливый, как бы оглушенный, едва пересилив подступившую к горлу спазму, почти шепотом кончил; боясь взглянуть на Анюту – что она? – стоял недвижимо, весь напрягшись.
– Ах! – вскрикнула Анюта, схватив за руку Ивана Савича.
Он вздрогнул.
– Глядите, глядите! – Анюта смеялась, тащила к окну. – Собачья барыня пляшет… Как смешно!
Собачьей барыней звали полоумную базарную побирушку, маленькую костлявую старуху, за которой вечно ходили десятка полтора бездомных собак. Она делилась с ними теми жалкими кусочками, что подавали ей приезжавшие на базар мужики.
– Ах, как смешно! – радовалась Анюта.
Потом, вдруг как бы спохватившись, сделала серьезные, испуганные глаза, в неподдельном изумлении всплеснула руками:
– И как это вы складно так стишок сочинили! Я бы ни за что не сумела… ей-право!
Одиночество. Одиночество.
Еще прошлой осенью с великим старанием начисто переписал несколько стихов, «пьес», как он их называл, и разослал в столичные журналы с покорнейшей просьбой напечатать, буде господа редакторы соблаговолят найти возможным.
В редакционные корзины летели листки почтовой бумаги, исписанные изящным мелким почерком. Подпись «Иван Никитин» – ровно ничего не говорила господам редакторам «Пантеона», «Москвитянина», «Библиотеки для чтения».
Столицы немотствовали.
Вот уже и новый дом не радовал.
В пяти пустых комнатах мертво, голоса отдаются, как в подземелье.
У Саввы кончился запойный круг. Сидел смирно, шевеля губами, читал «Россияду». Однажды, сняв очки и заложив закладкой книгу, сказал:
– Вишь, выстроили махину… Казарма, прости господи, хочь в салки играй. А стоит без пользы.
Никитин промолчал. Он с нескрываемой неприязнью, с презрением даже, разглядывал отца: экая рассудительность, экий житейский разум, подумаешь! Запамятовал, как третьеводни барахтался в базарной грязище, не в силах встать на ноги, матерился, орал: «Эх, в Таганро-о-оги! Эх, там со-лу-чи-и-илася беда-а!» Вчера Иван Савич решился все-таки, сказал насчет нравственного подвига:
– Вы ведь религиозный человек, батенька, почему бы вам не подвигнуть себя на святое дело?
– Какое еще дело? – хмуро пробурчал Савва.
– Сходили бы к чудотворцам печерским или в Почаев… А то и того выше – в Иерусалим, ко гробу господню… Я бы и денег вам дал.
Долгим пристальным взглядом поглядел старик. Усмехнулся.
– Со двора сжить хочешь?
И молча сунул под нос Ивану Савичу грязный, с надтреснутым ногтем кукиш.
Сейчас – трезвый, умытый, с расчесанной бородой – сидел, притворялся озабоченным, рачительным хозяином, готовый изречь житейскую премудрость, подать совет, научить, наставить…
В такие минуты Иван Савич ненавидел родителя.
– Слышь, что ль? – Старик повысил голос.
– Не кричите, не глухой, – раздраженно отозвался Никитин. – Что вам от меня нужно?
– Ох, малый… – сказал Савва. – Чтой-то дюже высоко заносисси!
И тут же, разумеется, «преподал и наставил»: вывесить в окошке билетик «сдается внаем».
– Все лишняя копейка…
В трех комнатах нового дома стал квартировать семинарский профессор. Тот самый, что некогда, встретясь на улице, учил Никитина, как жить.
– А ты, я вижу, фратер, за ум взялся, – сказал он, покровительственно похлопав Ивана Савича по плечу. – Обрел-таки землю, кипящую млеком и медом. Изрядно, изрядно… Одобряю!
Торговался он, впрочем, как последний маклак на базаре, не до рубля – до копейки, чем и снискал уважение старика.
– Сурьезный господин, – сказал Савва. – Эка загривок-то… Бычина!
Поросший седовато-рыжей шерстью, загривок профессора был бугрист и так крут, что для шеи уже и места не оставалось. Семинаристы прозвали его Ступой. С Никитиным он держал себя так, словно тот все еще ходил в школярах, – строго, не допуская возражений, подчеркивая свое ученое профессорство и чиновную недосягаемость. И это раздражало и было обидно, как и то, что отец, всегда упрямый и своевольный, раболепствовал перед Ступой, заискивал его расположения, льстиво поддакивал.
С появлением профессора в доме на Кирочной постоянно толклись деревенские попы и дьячки – первые в лисьих, барашковых и даже енотовых тулупах, в козловых сапогах и глубоких кожаных калошах, вторые – в облезлых, на рыбьем меху, кафтанишках, нередко залатанных, в грубых мужицких бахилах, а не то, так и просто в лаптях. И те и другие хлопотали за своих чад, одинаково низкопоклонничая перед профессором и одаривая его нехитрыми деревенскими приношениями. В холодном чуланчике профессорской квартиры висели копченые окорока, гусиные тушки, утиные полотки; бочоночки с грибками и медом стояли рядком, как в солдатском строю. Всю эту благодать немыслимо было съесть одному человеку, даже семипудовому Ступе, и потому на Кирочную частенько наведывались базарные перекупщики, маклаки. Тут кое-что, случалось, и Савве перепадало.
Униженно кланяясь, рассыпаясь в благодарностях, отцы разъезжались по своим деревенькам, а следом в обитую черной вонючей клеенкой дверь профессорской квартиры стучались тощие, испитые юнцы в несуразных, похожих на капоты, уродливо сшитых шинелях и длиннополых сюртучках. Это были безнадежные чада просителей и давателей, с которыми Ступа занимался репетицией приватно от занятий семинарских. Сии и вовсе в профессорское жилище, как в храм, входили.
Иван Савич, заглянув на половину ученого жильца, удивился: ни шкафов книжных, ни полок. С десяток тощих учебников, по которым Ступа составлял свои лекции, – и все. Кроме базара и церковных служб, обедней и всенощных, он никуда не ходил, ничто в мире его не занимало. Однако выписывал «Северную Пчелу» или, как он ее ласково называл, «Пчелку», и, зайдя к Никитиным, любил покалякать о вычитанном в булгаринском листке, вроде того, что султан-де османский опять грозит православному кресту, что полячишки с жидками стакнулись, уговариваются меж собою святую Русь ожидовить. «Да куда им, тонконогим, – рычал, – султан-то еще туды-сюды, а уж эти!» И сплевывал, и плевком как бы уничтожал всех иноверцев. И снова рычал, что вся зараза от сочинителей, от всяких там Пушкиных да Белинских, что доведут они Россию-матушку…
Из литераторов он лишь троих почитал – Булгарина, Греча и Барона Брамбеуса. «Протчие, – говорил, – и ногтя моего не стоят!» И на узловатом, корявом мизинце показывал широкий, плоский ноготь – беловато-желтый, похожий на грязную яичную скорлупу.
На этого Собакевича и глядеть-то было противно. Сиплый, гундосый голос, бычий загривок, покатые бабьи плечи, осыпанные крупной перхотью; толстые, как оладьи, с отвисшими мочками уши, плотно прижатые к голове, – все возмущало, вызывало отвращение, чуть ли не тошноту. Особенно – запах, странный, из множества людей присущий ему одному: какая-то несуразная смесь застойной затхлости давно не топленной избы, жукова табака и сладенького валерьянового декохта. Ивана Савича мутило от профессорского запаха.
Каково же было сидеть с ним часами рядом, слушать пошлейшие прибаутки, вдыхать отравленный его присутствием воздух…
А ведь вот – сидел, слушал.
Играл в карты, которые ненавидел. Старался не слишком выказывать чувство скуки и, что было еще трудней, отвращения. Непостижима была вся эта житейская комедия, его собственное участие в ней. Только что, позабыв все, переступив заветную черту, сидел над тетрадью, и не было вокруг ничего, что связывало по рукам и ногам – расчеты, постояльцы, батенькины озорства, докучливые, раздражающие сентенции квартиранта, – а были небо, степь, без конца и края, зеленеющая, вольный весенний ветер, просторная даль России… И легко находились нужные слова: святая старина, меч недругу, пожар небес. Он набросал, спеша от волненья, от знакомого восторга, пропуская буквы, не дописывая слова: «Широко ты, Русь, по лицу земли в красе радостной развернулася…» И тут же зачеркнул «радостной» – не так, не так! Что-то другое просится… «Радостной» – хорошо, да мелко, по-домашнему как-то. Царственной! – вот нужное слово!
– Иван Савич! – позвал отец. – Ну-кось, вылазь, чего сидишь, ровно сыч какой…
– Пожалуйте-с, любезнейший, – словно в бочку, сказал профессор. – Мы уже и карточки стисовали. Ждем-с.
Следовало бы отказаться решительно, сказать резко – что занят, что презирает подобное глупое времяпрепровождение; крикнуть, наконец, чтоб оставили его в покое, убирались прочь! А он, вздохнув, поморщившись, захлопнул тетрадь и с покорностью приносимого в жертву агнца пошел играть. «Зачем я так поступаю? – спросил себя. – Зачем сажусь за эти подлейшие карты?» – «А затем, – тут же ответил безжалостно, – затем, Иван Савич, что многое можешь осилить: груженый ли воз сдвинуть, шестипудовые ли чувалы ворочать… Перед любой бедой не погнешься… А вот бытия нашего, мещанского подлого бытия одолеть – нет, не в силах…» Вы только представьте себе: батенька, разумеется, выпивши, он отказ за дерзость, за обиду почтет, затеет шум, брань, – не приведи господь! «Садись, такой-сякой, кому говорят! Тисуй, не моги родителю поперек молвить!» А ведь прежде сроду не картежничал Савва-то, это его Ступа научил, окаянный профессор! Иван Савич не раз замечал – для потехи, что ли, подпаивает квартирант старика. Вот таким-то побытом и оказывались сильные люди рабами домашнего уклада и делались как бы куклами в руках балаганного шута горохового, петрушечника, паяца… Однако сей паяц был профессором, имел чин коллежского асессора и орден святыя Анны, и, кроме всего, приносил доход – пятнадцать целковых ежемесячно. Позвольте это особенно заметить.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Жизнь Никитина"
Книги похожие на "Жизнь Никитина" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Владимир Кораблинов - Жизнь Никитина"
Отзывы читателей о книге "Жизнь Никитина", комментарии и мнения людей о произведении.