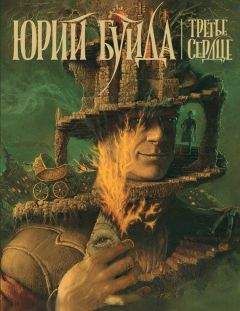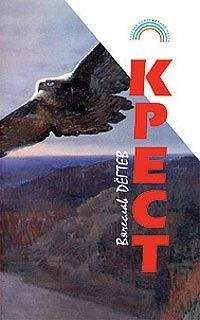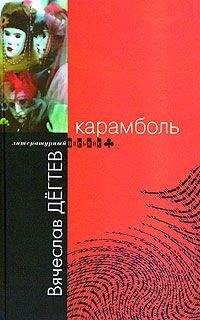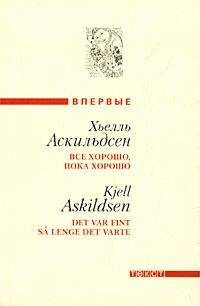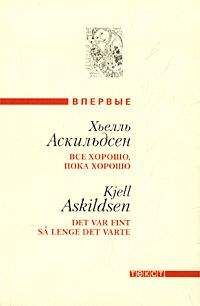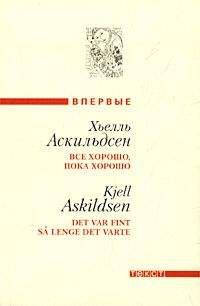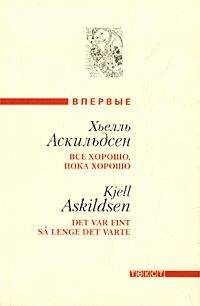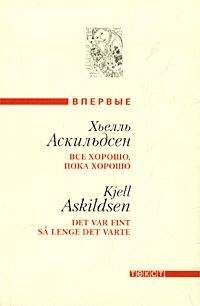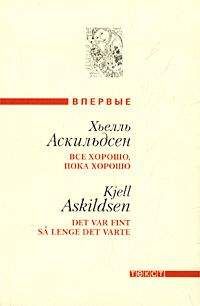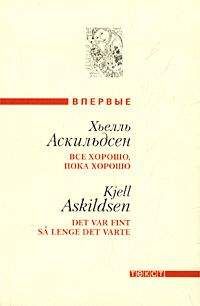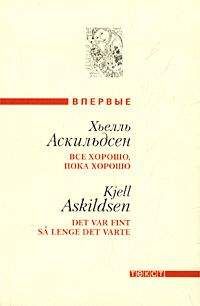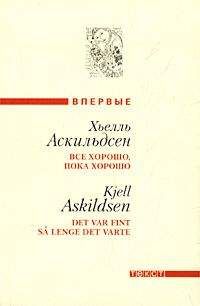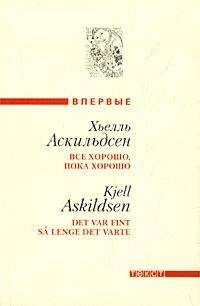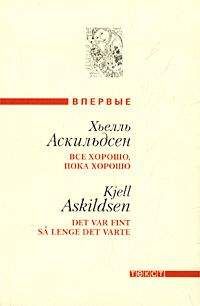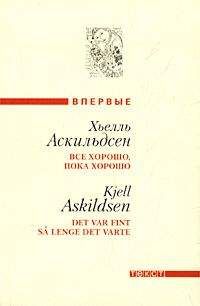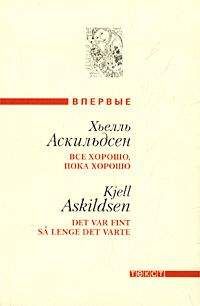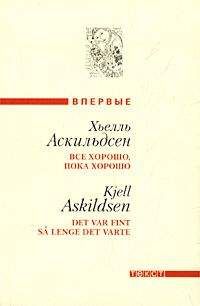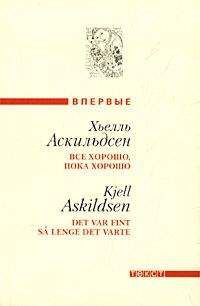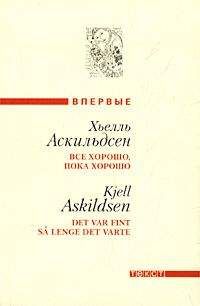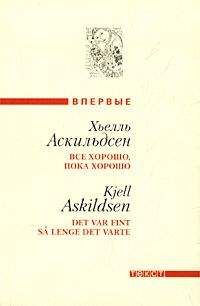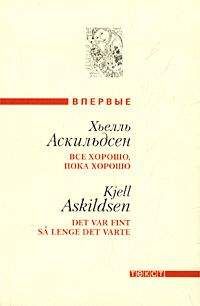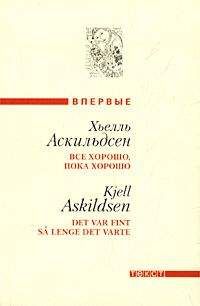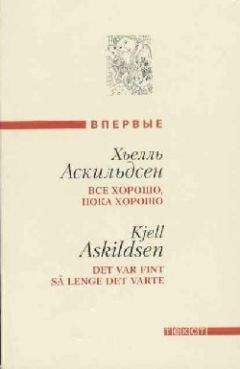Вячеслав Дегтев - Последний парад
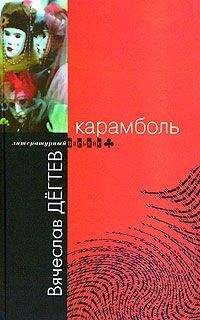
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Последний парад"
Описание и краткое содержание "Последний парад" читать бесплатно онлайн.
В новую книгу известного русского писателя, лауреата многих литературных премий, в том числе международной Платоновской и премии «России верные сыны», финалиста национального «Бестселлера-2003», вошли рассказы.
Критики отмечают у Дегтева внутренний лиризм до сентиментальности, откровенную жесткость до жестокости, самоуверенную амбициозность «лидера постреализма». Они окрестили его «русским Джеком Лондоном», а Юрий Бондарев назвал «самым ярким открытием последнего десятилетия».
И вот хоронили как-то одного писателя средней, даже по областным меркам, руки. Самое большое его достижение заключалось в том, что одно время он возглавлял областной литературный журнал. Но по жизни он был не вредный мужик. И наверняка не очень подлый. Хоть и служил во время войны в СМЕРШе… Кстати, все они, за редким исключением, служили или в СМЕРШах, или в заградотрядах, или особистами, или журналистами — потому и выжили. Кто был на «передке» — тот там и остался. Но этот не был сволочным — среди той бдительной братии этот был редкостью, если не исключением.
Помню, незадолго до смерти он сказал как-то, что вот, дескать, жаль, скоро умирать придется, а ведь грядут очень хорошие для литературы времена, о которых он мечтал всю жизнь и которых так и не дождался; и еще сказал, что настоящая литература появляется как раз тогда, когда заниматься ею становится невыгодно. В этом парадокс всякого настоящего искусства!
Меня парализовало от этой мысли… И дальше я слушал его, уже затаив дыхание.
Если и есть у него пара-тройка рассказов, продолжал говорить он, глядя в лестничный пролет, так и те написаны в то время, когда ему и в голову не приходило становиться писателем. И, все так же глядя в пролет, добавил: все в жизни чепуха. Все! Кроме здоровья и самой жизни, пусть самой ничтожной. И что счастлив он был всего лишь три раза — всего три! — когда впервые написал рассказ и даже не мечтал его печатать, лишь читал друзьям в избе-читальне, а потом они обсуждали и мечтали, «по-мальчишески, в дым», о его писательской карьере, которая, по большому счету, так и не состоялась; второй раз — когда провел первую ночь на сеновале с Марфушей, перед самой войной; и третий раз — когда вышел к своим после трех недель окружения. Все! Остальное — че-пу-ха.
И я поверил ему. И зауважал его. У наших борзописцев во всех их толстенных фолиантах не нашлось бы ни одной такой искренней фразы. Ни одной настолько честной мысли; им, погрязшим в интригах, подобное даже в голову-то, наверное, не приходило. Всю жизнь своими бледными и алчными ручонками они мостили свои ничтожные дороги в никуда…
Да, жизнь прошла впустую, сказал он на прощанье. В суете и компромиссах. А нужно было найти свою точку, упереться и стоять на ней; стоять насмерть. Упорствовать неустанно. Всю жизнь. Без всяких надежд и условий. Конечно, сложилась бы другая судьба, неудачная, непутевая на взгляд обывателя, гораздо тяжелей и трагичней, — ведь люди способны простить любое предательство или подлость, только таланта и успеха, даже призрачного, не прощают никогда — но то была бы настоящая жизнь, а не прозябание.
О, как он оказался прав!
И вот он вскоре умер. И мне пришлось его хоронить. На похоронах были все сплошь знакомые лица: те, кто обязан быть «по должности», родственники (молодящаяся жена с перезрелой дочерью, я знал их), да еще «похоронная команда»: трое-четверо алкашей, имеющих какое-то весьма косвенное отношение к литературе, которые присутствовали на всех без исключения похоронах. И была среди этой праздно-равнодушной тусовки парочка, которая привлекала к себе всеобщее внимание: старуха в тяжелой «плюшке», в черном платке и чуть ли не в калошах и пьяный какой-то мужик в солдатском бушлате, похожий на колхозного комбайнера. Они выделялись из толпы этих паразитов-белоручек. Все их сторонились, но почему-то не выпроваживали. Значит, имели они какое-то отношение к покойному… На кладбище поехали всего несколько человек: официальные лица, копачи и ближайшие родственники. Поехала и эта парочка. И там, когда отговорили свои речи по бумажке официальные лица, когда манерно попрощалась с папой накрашенная дочка, а молодящаяся вдова в черной вуали и черных перчатках даже не поцеловала, лишь коснулась лба покойного перчатками, тут бабка в «плюшке» и обхватила гроб, и заголосила, как голосят в любом селе, как голосили у меня на родном хуторе, заголосила так пронзительно и так искренне, обливая слезами холодный, ледяной, белый как мел, лоб покойника, что у меня заледенело в груди и помимо воли набежала непрошеная слеза. И мужик в бушлате тоже стоял у гроба и вытирал шапкой глаза.
Мне все стало ясно. Похоже, это и была та самая Марфуша…
А когда стали засыпать гроб — он был простой, черный и с крестом, — они вдруг обнялись с молодящейся расфуфыренной вдовой и с накрашенной дочерью, и назад уже возвращались вместе — некого стало делить.
Прошло уже много лет, десять или больше, а я все помню эту сцену и помню слова старого писателя о настоящей литературе, и меня греет мысль, что я никогда не рассматривал свои занятия как средство карьеры или заработка — скорее как сумасшествие. Я всегда писал, что думал. Говорил то, во что верил… Потому и один. Потому и на льдине. Иногад, правда, приходилось валять ваньку, чтоб сбить с толку бдительных умников. Но по большому счету я не изменял себе никогда. Я нашел свою точку, уперся и стою. Стою всю жизнь. Упорствую неустанно. Кому-то нравятся мои перехлесты и заблуждения, другие считают это «стриптизом души» — что ж, может, они и правы. Ведь не всякому дано воспринять искренность суждений и открытость взгляда — для этого тоже нужно хоть что-нибудь да иметь за душой…
Увы, как и во все времена, торжествует ничтожество.
Ах, если б знали вы, сколько мелкого зла, сколько ядовитых уколов и нежданных щипков принесли мне эти занятия, этот вышеназванный «стриптиз»! Иногда проблемы возникали вообще на ровном месте — возникнут они и после публикации этого текста…
Я сломал судьбы себе и нескольким близким мне людям, у меня множество врагов (в основном бывшие друзья), у меня несколько детей — сироты при живом отце, и их матери мучаются даже больше, чем я, и, видно, мучиться им до конца, и, похоже, так же смешно, как того писателя, будут хоронить и меня. Не делите ж места у гроба, родные, — обнимитесь, мои милые, и поплачьте, поголосите обо мне, о моей несложившейся, разменянной на сладкие грезы, растраченной на красивые химеры, потерянной, непутевой моей жизни, — поплачьте, я всех вас любил.
СЕМИСТРУННАЯ ДУША
«Все как прежде, все та же гитара…» — напевал я, работая у себя в мастерской, в подвале, — подгонял верхнюю деку, доводя ее до нужной толщины, так, чтоб не было диссонанса с нижней; врезал в нее розетку, инкрустированную перламутром, с которой возился чуть ли не месяц, набирая мозаичный узор; подумывал уже о перекуре, когда он и появился, тот странный посетитель. Я предложил ему присесть у двери на стул, пока закончу утяжку корпусной обечайки вокруг металлической формы. Полезно, знаете ли, иногда «выдержать» заказчика — и он «проникнется», и сам присмотришься к нему. Торопиться в таких делах не следует…
Пока он сидел, поерзывая, я закладывал новый инструмент: распарил в кипятке две полоски палисандрового шпона радиального распила, после чего притянул эти полоски большими струбцинами к металлической форме, напоминающей изящную женскую фигуру, склеил две половинки верхней деки из резонансной ели тангентального распила.
«Шаг за шагом влечет за собой…» — напевал, работая, старинный романс, осторожно присматриваясь к гостю. Был он еще достаточно молод, одет дорого и по моде, смахивал на «нового русского», но не нашего, провинциального, а столичного, лощеного, не лишенного манер. Он внимательно и, похоже, с интересом рассматривал мастерскую, наблюдал за моими действиями, и его карие, как-то странно блестевшие глаза сделались черными и горели сейчас искренним любопытством. Он прищелкнул языком и сказал что-то по поводу того, что, мол, это сколько ж времени уходит на один только инструмент?! Я отозвался, что в среднем около полугода. Вот только обечайка выдерживаться будет в форме около месяца… Это значит, два инструмента в год, подсчитал он. А больше можно? Можно, отозвался я опять, но качество будет соответствующее. Так мы разговорились…
Наконец закончил работу и закурил. Он расстегнул футляр и достал оттуда изрядно побитую, с расщепленным грифом и треснувшим корпусом гитару. Инструмент был старый. Когда взял в руки, понял, что гитара очень старая. Когда же рассмотрел поближе, оказалось, что она просто древняя. Можно отреставрировать? — поинтересовался гость. Конечно, можно. Даже нужно! — радостно отозвался я, ибо гитара была мало того что древняя, но, похоже, и заграничная, по всей видимости, австрийской работы. А у старых мастеров всегда есть чему поучиться. Что, и звучать будет? — недоверчиво спросил гость на прощанье. — Как новая! Мы условились о сроках и цене. Лицо посетителя не дрогнуло от названной мной суммы, он тут же заплатил половину в виде задатка, и мы распрощались.
«В такт аккордам мелодии старой…» — звучало во мне, когда рассматривал гитару. Работа была высокого класса. Циммерман отпадал сразу: у него все инструменты украшались богатым, наборным «усом» вдоль всего края корпуса — тут такого не было вовсе. Зато посреди нижней деки красовался широкий, так называемый «центральный ус», инкрустированный костью. Что намекало на принадлежность инструмента австрийскому мастеру Шерцеру. Да и кузов — несколько увеличенный, внутри которого вместо обычных семи — девяти было тринадцать реек-пружин, что говорило о мощном звуке, наполненном, «мясистом», — склонял опять же в пользу Шерцера. Однако инкрустации на розетке, на верхней деке, что было характернейшей особенностью знаменитого австрийца, что-то не наблюдалось. А червячная передача колкового механизма и вовсе смахивала на ту, что использовал русский мастер Краснощеков. Маховички колков были из мамонтовой серо-желтой потрескавшейся кости, что тоже говорило в пользу русского происхождения инструмента. Головка грушевого грифа, покрытого черным эбеновым деревом, была выполнена в виде лиры с завитками, что не характерно ни для австрийца, ни для Краснощекова: в те времена, когда они жили, в девятнадцатом веке, это считалось дурным вкусом. Зато раньше, в восемнадцатом, такие грифы изготавливались сплошь и рядом. Восьмиконечная звездочка внизу верхней деки также подтверждала русское и очень старое происхождение гитары. На одном из валиков колкового механизма рассмотрел ороговевший узел от жильной струны. Боже мой! Жильные струны не используются уже лет, наверное, сто. Неужто в самом деле — восемнадцатый век?!
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Последний парад"
Книги похожие на "Последний парад" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Вячеслав Дегтев - Последний парад"
Отзывы читателей о книге "Последний парад", комментарии и мнения людей о произведении.