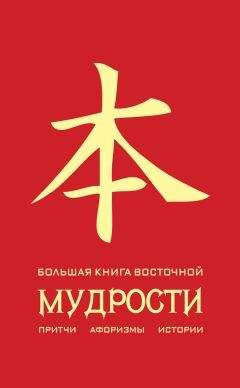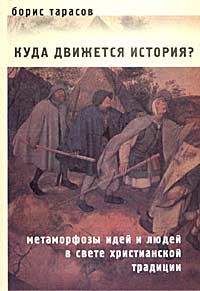Ф. Степун - Освальд Шпенглер и Закат Европы
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Освальд Шпенглер и Закат Европы"
Описание и краткое содержание "Освальд Шпенглер и Закат Европы" читать бесплатно онлайн.
Предлагаемый сборник статей о книге Шпенглера "[Der] Untergang des Abendlandes" не объединен общностью миросозерцания его участников. Общее между ними лишь в сознании значительности самой темы — о духовной культуре и ее современном кризисе. С этой точки зрения, как бы ни относиться к идеям Шпенглера по существу, книга его представляется участникам сборника в высшей степени симптоматичной и примечательной.
Главная задача сборника — ввести читателя в мир идей Шпенглера. Более систематическому изложению этих идей посвящена статья Ф. А. Степуна. Но и остальные авторы, делясь своими впечатлениями от книги и мыслями о Шпенглере, пытались по возможности воспроизводить объективное содержание его идей. Таким образом — по заданию сборника — читатель из четырех обзоров должен получить достаточно полное представление об этой, несомненно, выдающейся книге, составившей культурное событие в Германии.
Шпенглер может произвести впечатление крайнего релятивиста и скептика. Даже математика для него относительна. Существует античная аполлоновская математика, — математика конечного, и европейская фаустовская математика, — математика бесконечного. Наука не безусловна, не абсолютна, она есть лишь выражение душ разных культур, разных рас. Но в сущности Шпенглера нельзя причислить ни к какому направлению. Ему совершенно чужда академическая философия, он ее презирает. Он прежде всего своеобразный интуитивист. И в этом он родствен духу Гетевского созерцания. Гете интуитивно созерцал первофеномены природы. Шпенглер интуитивно созерцает историю первофеноменов культуры. Он также, как и Гете, символист по своему миросозерцанию. Он отказывается мыслить отвлеченными понятиями, не верит в плодотворность такого мышления. Ему совершенно чужда всякая отвлеченная метафизика. От мертвящего методологизма и гносеологизма, в который выродилась некогда великая германская мысль, от болезненной и бесплодной рефлексии обращается Шпенглер к живой интуиции. Он бросается в темный океан исторического бытия народов и проникает в души рас и культур, в стили эпох. Он порывает с эпохой гносеологизма в философской мысли, но не переходит к онтологизму, не строит никакой онтологии и не верит в возможность онтологии. Он знает лишь бытие, явленное в культурах, отраженное в культурах Первооснова бытия и смысл бытия остаются для него закрытыми. Морфология истории для него — единственная возможная философия. У него нет даже философии истории, а исключительно — морфология истории. Все истины, истины науки, философии, религии — для Шпенглера только истины культуры, культурных типов, культурных душ. Истины математики — символы разных стилей культурных душ. Такое отношение к познанию и бытию характерно для человека поздней, закатной культуры. Душа человека в эпохи культурного заката задумывается над судьбой культур, над исторической судьбой человечества. Так всегда бывало. Такая душа не интересуется ни отвлеченным познанием природы, ни отвлеченным познанием сущности и смысла бытия. Ее интересует сама культура и все — лишь в культуре отраженное. Ее поражает умирание некогда цветущих культур. Она ранена неотвратимостью судьбы. Шпенглер очень произволен, он не считает себя связанным никакой общеобязательностью. Он, прежде всего, — парадоксолист. Для него, как и для Ницше, парадокс есть способ познания. В книге Шпенглера есть какое-то сходство с книгой гениального юноши Вейнингера "Пол и характер", несмотря на все различие тем и духовной настроенности. Книга Шпенглера — столь же замечательное явление в духовной культуре Германии, как и книга Вейнингера. По широте замысла, по размаху, по своеобразию интуитивного проникновения в историю культур, книгу Шпенглера можно еще сопоставить с замечательной книгой Чемберлена "Die Grundlagen des Neunzehnten Jahrhunderts"‹15›. После Ницше — Вейнингер, Чемберлен и Шпенглер — единственные, подлинно оригинальные и значительные явления в Германской духовной культуре. Подобно Шопенгауэру, Шпенглер презирает профессоров философии. Он дает очень произвольный перечень ценимых им писателей и мыслителей, значительных по его мнению книг. Это люди очень разного духа. Но все они имеют отношение к принципу воли к жизни и воли к могуществу, все обозначают кризис культуры. Это — Шопенгауэр, Прудон, Маркс, Р. Вагнер, Дюринг, Ибсен, Ницше, Стриндберг, Вейнингер. Пессимист ли Шпенглер? На многих книга его должна произвести впечатление самого безграничного пессимизма. Но это — не метафизический пессимизм. Шпенглер не хочет угашения воли к жизни. Наоборот, он хочет утверждения воли к жизни и воли к могуществу. В этом он ближе к Ницше, чем к Шопенгауэру. Все культуры обречены на увядание и смерть. Обречена и наша европейская культура. Но нужно принять судьбу, не противиться ей и жить до конца, до конца осуществляя волю к могуществу. У Шпенглера есть amor fati‹16›. Пессимизм Шпенглера, если уместен такой термин в применении к нему, есть пессимизм культурно-исторический, а не индивидуально-метафизический и не индивидуально-этический. Он — пессимист цивилизации. Он отрицает идею прогресса, он возвращается к учению о круговороте. Но у него нет пессимистического баланса страданий и наслаждений, пессимистического понимания самого существа жизни. Он признает заключенный в перводуше неиссякаемый творческий источник жизни, порождающий все новые и новые культуры. Он любит эту волю к культурному цветению. И он принимает смерть культуры, как закон жизни, как неотвратимый момент в самой жизненной судьбе культуры. Изумительно сильно у Шпенглера сопоставление явлений в разных областях культуры и раскрытие в них однородного символа, ознаменовывающего ту же душу культуры, тот же культурный стиль. Он переносит понятия из математики и физики в живопись и музыку, из искусства в государство, из государства в религию. Так он говорит об аполлоновской и фаустовской математике. Он открывает одни и те же первофеномены в разные эпохи, в разных культурах. И он считает возможным признать однородными такие явления, как буддизм, стоицизм и социализм, принадлежащие разным эпохам и культурам. Наиболее замечательны его мысли об искусстве и о математике и физике. У него есть, поистине, гениальные интуиции.
Шпенглер — арелигиозная натура. В этом его трагедия. У него как будто бы атрофировано религиозное чувство. В то время, как Вейнингер и Чемберлен — религиозные натуры, Шпенглер — арелигиозен. Он не только сам нерелигиозен, но он и не понимает религиозной жизни человечества. Он просмотрел роль христианства в судьбе европейской культуры. Это — самая поражающая сторона его книги. В этом ее духовное уродство, почти что чудовищность ее. Не нужно быть христианином, чтобы понять значение христианства в истории европейской культуры. Пафос объективности должен к этому принуждать. Но Шпенглер не чувствует себя принужденным к такой объективности. Он не созерцает христианства в истории, не видит религиозного смысла. Он знает, что культура религиозна по своей природе и этим отличается от цивилизации, которая безрелигиозна. Но религиозного смысла в культуре он не постигает. Он обречен себя чувствовать человеком цивилизации именно потому, что он безрелигиозен. Но ему дано было высказать самые благородные мысли, какие могли быть высказаны неверующей душой в наше время. За его цивилизаторским самочувствием и самосознанием можно ощутить печаль культуры, утерявшей веру и склоняющейся к упадку.
***
Шпенглер чувствует и познает мир прежде всего как историю. Это он считает современным чувством мира. Только такому отношению к миру принадлежит будущее. Динамизм характерен для нашего времени. И только постижение мира, как истории, есть динамическое постижение. Мир, как природа, статичен. Шпенглер противополагает природу и историю, как два способа рассмотрения мира. Природа есть пространство. История есть время. Нам мир предстоит, как природа, когда мы его рассматриваем с точки зрения причинности, и он нам предстоит, как история, когда мы рассматриваем его с точки зрения судьбы. Что история есть судьба, это очень хорошо у Шпенглера. Судьба не может быть понята, посредством причинного объяснения. Только точка зрения судьбы дает нам постижение конкретного. Очень верно утверждение Шпенглера, что для античного человека не было истории. Грек воспринимал мир статически, он был для него природой, космосом, а не историей. Он не знал исторической дали. Мысли Шпенглера об античности очень остры. Нужно признать, что греческая мысль не знала философии истории. Ее не было ни у Платона, ни у Аристотеля. Точка зрения философии истории противоположна эстетическому созерцанию эллина. Мир был для него завершенным космосом. Эллинская мысль создала элейскую метафизику, столь неблагоприятную для понимания мира, как исторического процесса. Сам Шпенглер чувствует себя европейским человеком с фаустовской душой, с бесконечными стремлениями. Он не только противополагает себя античному человеку, но он утверждает, что античная душа для него непонятна, непроницаема. Это, впрочем, не мешает ему притязать на ее понимание и проницание. Но существует ли история у самого Шпенглера, у него, для которого мир есть, прежде всего, история, а не природа? Я думаю, что для Шпенглера не существует истории и для него невозможна философия истории. Не случайно назвал он свою книгу морфологией всемирной истории. Морфологическая точка зрения взята из естествознания. Историческая судьба, судьба культуры существует для Шпенглера лишь в том смысле, в каком существует судьба цветка. Исторической судьбы человечества не существует. Не существует единого человечества, единого субъекта истории. Христианство впервые сделало возможным философию истории тем, что раскрыло существование единого человечества с единой исторической судьбой, имеющей свое начало и конец. Так для христианского сознания открывается впервые трагедия всемирной истории, судьба человечества. Шпенглер же возвращается к языческому партикуляризму. Для него нет человечества, нет всемирной истории. Культуры, расы — замкнутые монады с замкнутой судьбой. Для него разные типы культуры переживают круговорот своей судьбы. Он возвращается к эллинской точке зрения, которая была преодолена христианским сознанием. С Шпенглера как будто бы сошла вода крещения. Он отрекается от своей христианской крови. И для него, как для эллина, не существует исторической дали. Историческая даль существует лишь в том случае, если существует историческая судьба человечества, всемирная история, если каждый тип культуры есть лишь момент всемирной судьбы.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Освальд Шпенглер и Закат Европы"
Книги похожие на "Освальд Шпенглер и Закат Европы" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Ф. Степун - Освальд Шпенглер и Закат Европы"
Отзывы читателей о книге "Освальд Шпенглер и Закат Европы", комментарии и мнения людей о произведении.