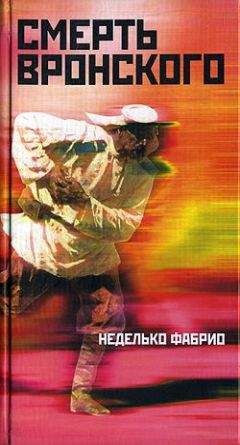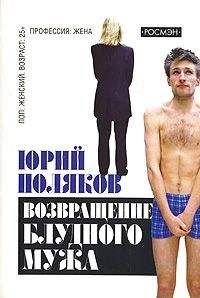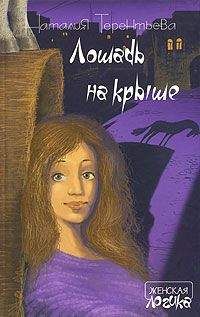Юрий Графский - Как звали лошадь Вронского?
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Как звали лошадь Вронского?"
Описание и краткое содержание "Как звали лошадь Вронского?" читать бесплатно онлайн.
Юрий Графский
Как звали лошадь Вронского?
1
Он просто сбежал от них. От жены и дочери. Жена была вечно недовольна им, он – ею. С дочерью Павлинов давно не разговаривал. Ее общение с матерью сводилось к известной формуле – “принеси, подай, поди вон”. Работала на фирме: что-то считала на компьютере. Получала большие деньги. Немного давала в дом. “Мне, – объясняла Валерия. -
Тебе не дала бы ничего”. До сих пор незамужем. “Кому такая сволочь нужна?” – незлобиво ронял Павлинов. Хотя какие-то мужики у нее были.
И это – та самая Тюпа, из-за которой всегда дрались дворовые мальчишки. Крупнее матери (метр восемьдесят ростом). Ко всем материнским прелестям ноги у нее были от ушей. Павлинов когда-то грозился приобрести станковый пулемет, дабы отгонять мужское отродье. Теперь у нее был какой-то козел, седоватый, низкорослый.
Они периодически закрывались у нее в комнате на час, на два. Потом она выходила, в халате, волосы навыпуск, за спину. Принимала душ, что-то готовила на кухне. Комната была захламлена: посредине, прямо на полу, валялись книги, платья, джинсы, туфли. При свиданиях все это она застилала газетами. Там же и ужинали с вином и мороженым.
Потом опять выморочно спали и расходились по домам.
“Живу в коммуналке, – неизвестно на кого роптал Павлинов, – где все соседи – однофамильцы”. Был на пенсии. Но делом своим продолжал заниматься: как-никак старший научный, специалист по Толстому.
Целыми днями что-то выписывал, сверял. Додумывал то, чего не смог или не смел просечь, служа в институте. Занимался ранним Толстым.
Формально его “епархия” кончалась “Казаками”, “Севастопольскими рассказами”. Однако по-настоящему его влекли “Анна Каренина”, “Война и мир”, поздние письма, статьи. Поэтому нынче, на свободе, не торопясь, вчитывался в толстовские откровения. Понял: когда сам становишься старше (если не сказать – старее), лучше понимаешь старение (может быть, поумнение?) бознакадашних – тех, из прошлого века. Толстой был как все: ссорился с детьми, катил бочку на Софью
Андреевну. Только сейчас оценил Павлинов глубину великого прозрения.
Перефразировал, приспособил к себе: “Все счастливые старики похожи друг на друга, каждый несчастный старик несчастлив по-своему”.
Это свалилось неожиданно, как кирпич на голову. Знал, что дома не все в порядке, но с женой, полагал, – более или менее. Скорее более, чем менее. Была прекрасной хозяйкой: постоянно что-то пекла, терла, мыла. Сама получала от этого удовлетворение. Звал ее Ермоловой на кухне. Когда-то была секретарем в одном из отделов института и, конечно, заочницей филологического факультета. Павлинов, как теперь говорят, положил на нее глаз и был в том не одинок. Валерия была стройна, с тонкой талией. Но главное – во что талия перетекала! О, эта червовая форма бедер, полукружья трусиков, которые проступали под платьем! Ходила по коридорам пританцовывая, будто в подошвах пружины. Золотистой свеей колыхались волосы на спине. Мужики, как один, оборачивались. Обернулся и Павлинов, но – по-своему. Помог выбрать тему дипломной работы, потом написал ее более, чем наполовину. Подручка не осталась невозданной. Пригласила отобедать
(жила с братом и матерью в коммунальной восьмиметровке). Дома никого не было, и она легла с ним легко и свободно. Потом началось. Сперва решили повторить. Потом сняли комнату, некоторое время ходили, чуть ли не взявшись за руки. В один из дней Валерия призналась, что
“залетела”. У Павлинова к тому времени угар прошел: женщина уже не безмерно нравилась ему. Остро, пряно потела. Вообще оказалась земной, приглушенной. Да и литературу любила не очень, в институт попала случайно.
Была из породы собственниц: редко упускала умычную добычу. Все вокруг помогали ей. Валерию даже вызвали в бухгалтерию, сказали – раз она не одинока, с нее станут вычитать за бездетность. Она не возражала. Сделала аборт. Лежала, бездыханная, на диване (в третьей по счету комнате, которую снимали), рассказывала, как было больно без наркоза. Стоял перед ней на коленях, поил с ложечки, шептал – это он виноват, больше такого не допустит: теперь, если, не дай Бог, что случится, будут рожать. Три года они были предельно осторожны, на четвертый родилась девочка. Тогда расписались.
Теперь они могли целый вечер просидеть у телевизора, не проронив ни слова. У нее, правда, на пенсии появилось хобби – разгадывать кроссворды. Могла вдруг сказать: “Вот это ты должен знать. Как звали лошадь Вронского?” Он поднимал глаза: “Неужели не помнишь?” Она отрицательно мотала головой. Сидела, забравшись с ногами, на диване.
Пенял: “Все-таки откровенная троечница. Всегда была ею. Четверку за диплом тебе поставили исключительно из уважения ко мне”. Смеялась.
Пытался вразумить: учеба – та же любовь, не какие-нибудь шолты-болты. Домашние дела не надо превращать в культ. “Я поел и ушел, – говорил он, – а ты осталась на кухне. Мне это неинтересно”.
Но она-то знала, что его интересовало на самом деле. На работу ездили троллейбусом. В тесноте, стоя сзади, шептал непристойности: грозил заголить ее, иметь тут же, на глазах у всех. Им на зависть.
Тихо смеялась. На работе продолжала разносить бумаги. Буквально молилась на полученную от института квартиру. Одну комнату превратили в библиотеку, закрыв стены стеллажами от пола до потолка.
Это был кабинет Павлинова. Каморку поменьше отдали дочери. Третья, самая большая, которую Валерия именовала залой, стала гостиной. Там стояло пианино, шкаф, на котором хозяйка держала свои богатства – детективы, псалтырь, стихирарь, справочник лекарственных растений.
Шкафу соседствовали телевизор, диван, на котором долго спали вместе, потом – одна Валерия. Павлинов переселился в кабинет. Изменилось не только это. Примерно равными оказались их пенсии. Получалось, что
Валерия, которая продолжала вести хозяйство, колотилась как рыба об лед. Павлинов же, который лишь пополнял свою картотеку, выглядел порхлым бездельником: усердие не оплачивалось. И хоть раньше у него была приличная зарплата (не чета секретарской), премии, редкие гонорары – и всё в доме, считал он, добыто его серым веществом, – получалось, что нынче он не более чем нахлебник. Захребетник, на которого горбатились жена и дочь. Во всяком случае, Валерия не отказывала себе в удовольствии подчеркнуть это. Отбивался, как мог: сочинял короткие, язвительные гномы. Домашние были обсыпаны ими, как гербицидами. Дочери, например, посвятил довольно суровый лимерик: “О ней, минуя околичность, я так скажу всегда, везде, что выросла, увы, не личность, а приложение к п…”. Консенсус с женой был обрисован ядреней: “Я на тебя махнул рукою, давно не трогаю, кажись. И ты оставь меня в покое – на всю оставшуюся жизнь”. Когда же Валерия
“доставала” его, импровизировал, глядя прямо ей в глаза: “Неплохо выглядишь, стройна. Но совершилось античудо: была нормальная жена, а стала старая зануда”. И еще писал, раздумывая над их сосуществованием: “Жену, чтобы образить ноги, нашел, как тряпку на дороге. Все это надо понимать, в царя и в Бога душу мать! Теперь печемся друг о друге за ритуальные услуги”.
Эта мысль приходила ему. Особенно – когда прочел у Толстого: “Думаю, что скоро умру, (…) умру без страха и противления, (…) жизнь матерьяльная держится на волоске и должна скоро оборваться, (…) начинаю чувствовать – не удовольствие, а интерес ожидания”. Павлинов не мог обнять своим утлым умом: как смертный подымался до такого?
Смотрел на себя издалека. Может быть, даже из нынешних дней: что от него останется навечно? Ознобом тянуло от пустоши толстовских прокименов (проповедей). Сопоставляя, называл себя – “луч света в сером царстве”, считая, что в этом случае пучок света как бы кривеет, теряет яркость. Вот разница потенциалов, отличие того, кто ходит, от того, кто парит. Однажды прочел в толстовском дневнике:
“Когда страдаешь, нужно искать не спички, а потушить свет, (…) который мешает видеть истинного “я””. Вспомнил этот эпизод: ночью у
Толстого погасла свеча. На него нашла жуткость. “А умирать собираешься, – ухмыльнулся на себя через день. – Что ж, умирать тоже будешь со спичками?” Сказал и тут же увидел свою жизнь в темноте. И успокоился. Что ж, продолжил мысль Павлинов, так и гасить свет, которым отличаешься от других? Был не согласен с лоботесом. Да и тот, если честно, не очень верил в то, о чем писал. С одной стороны, считал, что должен жить с женой и детьми в их мерклом бытии, с другой – отбивался, как мог. “Страдаешь не ты, – метил в дневнике, – а страсть, которую неправильно соединил с собою, (…) замени злобу любовью, и страдание кончится”. Верил, что такое возможно: чтил
Бога, теплил в душе святое. Павлинов же был атеистом, поэтому опускал его рассуждения о Боге, о том, как поправлять заблудших.
“Говорил с Андреем (сыном) мягко, добро, но не убедительно: робел, страдал”. Каким же надо быть человечищем, думал Павлинов, чтобы желать добра и при этом робеть! Человек осознает себя живущим, считал Толстой, когда знает, зачем живет. “А мы знаем? – спрашивал себя Павлинов. – Валерия знает? Полина (Тюпа) знает? Нет у нас потребности перед Богом, – соглашался с Толстым. – Нет идеи, которая вела бы сквозь частокол, чересполосицу будней. Почему нам сегодня все до феньки? – думал Павлинов. – Почему жизнь идет вот здесь вот, в десяти сантиметрах от пола? Неужели все свелось к тому, чтобы заработать лишний рубль?”
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Как звали лошадь Вронского?"
Книги похожие на "Как звали лошадь Вронского?" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Юрий Графский - Как звали лошадь Вронского?"
Отзывы читателей о книге "Как звали лошадь Вронского?", комментарии и мнения людей о произведении.