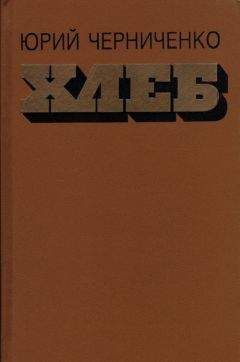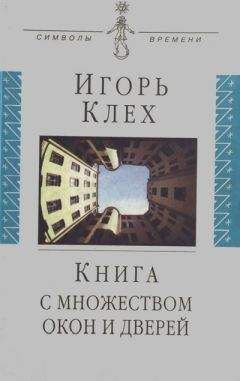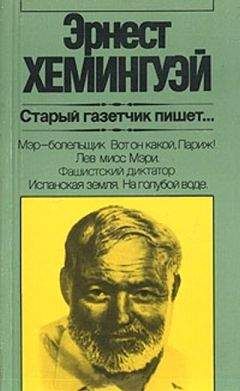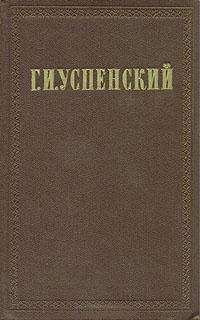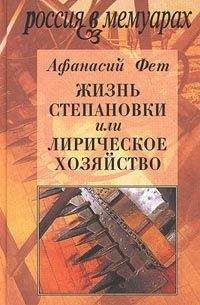Дмитрий Мережковский - Не мир, но меч

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Не мир, но меч"
Описание и краткое содержание "Не мир, но меч" читать бесплатно онлайн.
В данном издании вниманию читателя предлагаются некоторые из наиболее значительных произведений русского писателя, одного из зачинателей русского декаденства, Д.С.Мережковского (1866–1941). В книгу включены статьи, литературно-критические и религиозно-философские исследования автора.
Юродство есть отречение от человеческого разума во имя Божеского. Но если разум человеческий несоизмерим с Божеским, то как возможно явление слова, ставшего плотью, разума Божеского, ставшего разумом человеческим? Как возможно явление Христа?
Пелагея любила цветы. Ей часто приносили их. Она держала их подолгу в руках, тихонько перебирая, любуясь и что-то нашептывая.
Когда меня уверяют, будто бы христианская церковь освящает плоть мира, благословляет радости мира, мне вспоминаются эти живые цветы в руках «безумной Палаги», с когтями зверя, глазами ангела.
Неужели истинная Церковь, Невеста Христова, похожа на эту безобразную старуху или даже на ту «прекрасную как ангел», спящую в гробу, согретую теплой любовью темного народа, как будто живую, но все-таки мертвую?
Верим, чувствуем, знаем, что нет.
XIК тайне одного — личности, и к тайне двух — полу отношение Серафима, истинное или ложное, но, во всяком случае, глубокое: тут есть о чем говорить; но к тайне трех — к общественности, оно до такой степени плоское, что и говорить почти не о чем.
«Не должно входить в дела начальнические и судить оные; сим оскорбляется величество Божие, от коего власти поставляются, ибо несть власть, аще не от Бога, сущие же власти от Бога учинены суть. — Не должно противиться власти, чтобы не согрешить перед Богом и не подвергнуться Его праведному наказанию: противляющийся власти Божию повелению противляется».
Это мы давно знаем. Но если утверждение: всякая власть от Бога, — безусловно, не только в идеальном, но и в реальном смысле, не только как должное, но и как данное, — то почему же христианские мученики не подчинялись власти римских императоров, повелевавших поклониться своему изображению, как образу Божиему? — почему возмутились они против этой власти таким беспредельным возмущением, что оно сделалось началом величайшей из всех революций — той, которая смела с лица земли Римскую империю, совершеннейшее воплощение власти человеческой, признанной за «власть от Бога»? — почему признали они эту власть, в ее религиозном средоточии, в обожествлении кесаря, не силою Божией, а безбожным насилием — властью зверя-антихриста?
Мне принадлежит всякая власть на земле и на небе, — говорит Христос. — Тебе дам власть над всеми царствами, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее, — говорит дьявол.
Итак, есть власть от Бога и власть от дьявола, есть истинная и ложная власть. Как же отделить одну от другой? Ответить на этот вопрос: всякая власть от Бога, — значит одно из двух: или окончательно покориться власти зверя, предать Христа антихристу; или вернуться к тому недоумению, из которого и возник вопрос, то есть начать сказку про белого бычка. В течение двух тысячелетий христианство только и делало, что начинало эту сказку. Но хорошо ли, дурно ли, оно все-таки что-то начинало, что-то лепетало. А у Серафима единственный ответ — молчание.
«От молчания никто никогда не раскаивался», — говорит Серафим. Это благоразумно, даже слишком благоразумно; совсем не похоже на безумие Креста; с этим согласился бы, пожалуй, и сам Талейран, полагавший, что слова людям даны для того, чтобы скрывать мысли.
Менее благоразумный и менее святой предшественник Серафима, архиепископ ростовский, Арсений Мацеевич, судимый за оскорбление величества, на допросе перед синодом, в присутствии государыни, Екатерины II, говорил с такой откровенностью о порабощении и разорении русской церкви императорской властью, что Екатерина зажала себе уши, а ему заклепали рот.
Серафиму не заклепали рта: он и так молчал — и «от молчания никогда не раскаивался».
А ведь не мог не видеть и он, подобно Арсению, что «русская церковь в параличе с Петра Великого», что глава ее — не Христос, а русский самодержец, как объявил о том император Павел I, что она — департамент дел духовных, что «Крест — казенная поклажа» и что мерзость запустения стоит на месте святом.
Что же делал Серафим, видя все это?
Спасался в затворе. «Бегай, Арсений, людей и спасешься». Подражая древним подвижникам, при встрече с кем-либо падал лицом на землю и до тех пор не вставал, пока встретившийся не проходил мимо.
Вышел, однако, из десятилетнего затвора для того, чтобы благословить приехавшего в обитель тамбовского губернатора с женой.
Посещали его и другие сановники. «О. Серафим, — повествует Летопись, — относился к ним с должною честью, обращал внимание на важность их сана и, указывая на знаки отличия, украшающие грудь их (то есть на ордена и кресты), напоминая им о Распятом на кресте, говорил, что знаки сии должны служить им живой проповедью о их обязанности. Более же всего, по нуждам того времени, умолял охранять православную церковь, сильно колеблемую суетными мудрованиями века. „Этого, — говорил он, — ждет от вас народ русский; к тому должна побуждать вас совесть; для сего избрал вас и возвеличил государь“.
Император Александр I „избрал и возвеличил“ кн. А. Н. Голицына, назначив его обер-прокурором св. синода, что, по всей вероятности, и Серафиму было известно.
„Неверственная школа XVIII столетия, — рассказывает сам Голицын в своих мемуарах, — пустила глубокие корни в моем сердце. Деизм, который в то время был признаком людей хорошего тона, составлял все мое верование“. Это значит, обер-прокурор св. синода во Христа не верил; впрочем, в то время не верил во Христа и сам государь, „глава русской церкви“.
„Вот я отправляюсь в синод, вхожу в готическую храмину, вижу синодский декор, вижу на другой стороне зерцала, служебное Распятие. Вместе с тем, глазам моим встречается какой-то византийский трон из позолоченного дерева. Входя, креплюсь, стараюсь быть важным, степенным, приступаю к слушанию дел. Случилось же, что для первого моего прихода слушаны были такие дела, которые, во всяком случае, могли бы служить богатою канвою для самой соблазнительной хроники: предложены были процессы о прелюбодеяниях во всех их подробностях. Мне тогда показалось, что и святые отцы вовсе не были прочь их выслушивать — что же мне, молодому холостяку?“
Об этом заседании Голицын рассказал государю за обедом так остроумно, что оба от души хохотали. Над чем? Ведь, после уничтожения патриаршества, св. синод — единственное соборное правление русской церкви и, следовательно, единственное в ней „вместилище Духа Святого“.
„В обществе наших знакомых был некто князь Тюфякин, — продолжает Голицын. — Этот человек, которого нравственность была вовсе не лучше моей, позволял себе дерзкие выражения насчет религии, как и я сам, это составляло общую забаву и удовольствие наше. И вот однажды, у него в доме, бывши уже обер-прокурором синода, я вымолвил такое невместное, такое дерзновенное богохульство, что очень тем соблазнил моего Тюфякина, который даже от того встревожился и просил его пощадить. Вот какого блюстителя имел во мне святейший синод!“
И таких-то людей призывает Серафим на защиту церкви. И генеральские кресты их сравнивает с Крестом Господним. Что это такое? Младенчество? Но ведь для кого же, как не для святых, сказано: Не будьте по уму младенцы.
Серафим, говорят, обладал великим даром прозорливости. К нему приходили крестьяне, у которых украли корову или лошадь, и он угадывал место, где находится краденое. Знает, кто украл у мужика корову, а кто украл благодать у церкви, не знает.
У одного генерала, которого он исповедывал, свалились будто бы чудом ордена и кресты. „Это потому, что ты получил их незаслуженно“, — объяснил старец.
Кажется, дальше этих свалившихся генеральских крестиков не пошла борьба Серафима с неправедной властью.
У Елены Мантуровой, одной из дивеевских девушек, была крепостная девка Устинья. Вместе с госпожой своей поступила она в монастырь и жила с ней в одной келье, оставаясь крепостною. Устинья заболела чахоткой. Ее мучило, что она, больная, занимает место в тесной келье и беспокоит барыню: „Нет, матушка, я уйду от тебя, нет тебе от меня покоя!“ — повторяла Устинья. Но уйти не успела, умерла. И никому из них, ни Серафиму, ни Елене, ни самой Устинье, не пришло в голову, что рабство — мерзость перед Господом. Диавол брака является Елене в виде огненного змия, а диавол рабства остается невидимым. Вы куплены дорогою ценою: не делайтесь рабами человеков, это все забыли, а помнят только: рабы, повинуйтесь господам вашим, и нет власти не от Бога — следовательно, от Бога и власть русских помещиков.
В ранней юности Серафим был свидетелем Пугачевского бунта. Те разбойники, которые, напав на него в лесу, искалечили его, были крепостные, которые могли бы участвовать в бунте. Серафим едва не погиб от ожесточения рабов, но все-таки не задумался о рабстве и в течение всей своей жизни ни единым словом против него не обмолвился. Если бы это вообще зависело от Серафима, от христианских святых, от христианской святости, то крепостное право в России существовало бы и поныне. „Лучше тебе самому освободиться от уз греха, чем освобождать от рабства народы“, — этому завету первых святых остался верен и последний.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Не мир, но меч"
Книги похожие на "Не мир, но меч" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Дмитрий Мережковский - Не мир, но меч"
Отзывы читателей о книге "Не мир, но меч", комментарии и мнения людей о произведении.