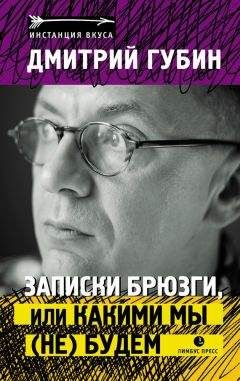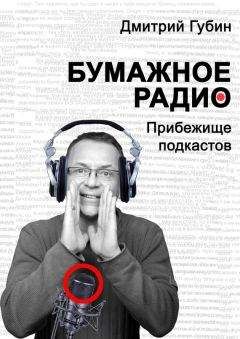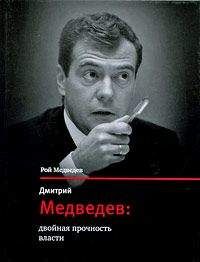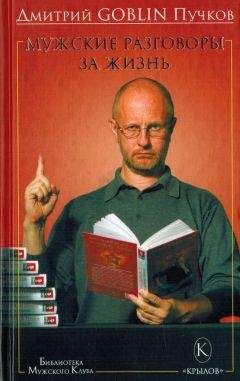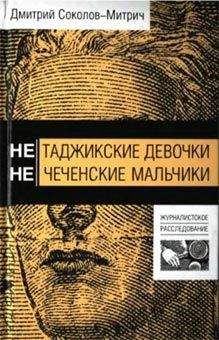Дмитрий Мережковский - Жизнь и творчество Дмитрия Мережковского
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Жизнь и творчество Дмитрия Мережковского"
Описание и краткое содержание "Жизнь и творчество Дмитрия Мережковского" читать бесплатно онлайн.
Гостиная Винаверов была одним из «салонов» русского литературного Парижа в 1925 — 26 годах (M. M. Винавер умер в 1926 году). Огромная квартира их в лучшей части города напоминала старые петербургские квартиры — с коврами, канделябрами, роялем в гостиной и книгами в кабинете. На доклады приглашалось человек тридцать, и не только «знаменитых», как Маклаков, Милюков, Мережковские, Бунин. Бывали и «подающие надежды», молодежь из монпарнасских кафе, сотрудники понедельничной газеты «Звено», которую издавал и редактировал Винавер (он кроме того издавал и редактировал в то время «Еврейскую трибуну» и был автором книги воспоминаний «Недавнее»), Известный кадет, член партии Народной свободы и бывший думец, он с Милюковым как бы поделил русскую демократическую печать (ежедневную, газетную) — Милюков издавал и редактировал «Последние новости», а Винавер — литературное приложение к газете.
После доклада гости переходили в столовую, где их ждал ужин. Зинаида Николаевна плохо видела и плохо слышала, и ее смех был ее защитой — она играла лорнеткой, и улыбалась, иногда притворяясь более близорукой, чем была на самом деле, более глухой, иногда переспрашивая что-нибудь, прекрасно ею понятое. Между нею и внешним миром происходила постоянная борьба-игра. Она, настоящая она, укрывалась иронией, капризами, интригами, манерностью от настоящей жизни вокруг и в себе самой.
Они жили в своей довоенной квартире, это значит, что, выехав из советской России в 1919 году и приехав в Париж, они отперли дверь квартиры своим ключом, и нашли все на месте: книги, посуду, белье. У них не было чувства бездомности, которое так остро было у Бунина и у других. В первые годы, когда я еще их не знала, они бывали во французских литературных кругах, встречались с людьми своего поколения (сходившего во Франции на нет), с Ренье, с Бурже, с Франсом.
— Потом мы им всем надоели, — говорил Дмитрий Сергеевич, — и они нас перестали приглашать.
— Потому что ты так бестактно ругал большевиков, — говорила она своим капризным скрипучим голосом, — а им всегда так хотелось их любить.
— Да, я лез к ним со своими жалобами и пхохочествами (он картавил), а им хотелось совсем другого: они находили, что русская революция — ужасно интересный опыт, в экзотической стране, и их не касается. И что, как сказал Ллойд Джордж, торговать можно и с каннибалами.
Вечерами она сидела у себя на диване, под лампой, в какой-нибудь старой, но все еще элегантной кацавейке, куря тонкие папироски или, приблизив работу к глазам, шила что-то (она любила шить), поблескивая наперстком на узком пальце. Запах духов и табаку стоял в комнате.
— Где мои кусочки? — спрашивала она, роясь в лоскутках.
— Где моя булочка? — спрашивала она за чаем, приближая к себе хлебную корзинку. В. А. Злобин ставил перед ней чашку.
— Где моя чашка? — и она обводила невидящими глазами стены комнаты.
— Дорогая, она перед вами, — терпеливо говорил Злобин своим умиротворяющим, веским тоном. — А вот и ваша булочка. Ее никто не взял. Она ваша.
Это была игра, но игра, которая продолжалась между ними много лет (почти тридцать), и которая обоим была необходима.
Потом открывалась дверь кабинета, и Д. С. входил в столовую. Я никогда не слышала, чтобы он говорил о чем-нибудь, что было бы неинтересно. З. H. часто спрашивала, говоря о людях:
— А он интересуется интересным?
Д. С. интересовался интересным, это было ясно с первого произнесенного им слова. Он создал для себя свой мир, там многого недоставало, но то, что ему было необходимо, там всегда было. Его мир был основан на политической непримиримости к Октябрьской революции, все остальное было несущественно. Вопросы эстетики, вопросы этики, вопросы религии, политики, науки, все было подчинено одному: чувству утери России, угрозы России миру, горечи изгнания, горечи сознания, что его никто не слышит в его жалобах, проклятиях и предостережениях. Иногда все это было только подводным течением в его речах, которое в самом конце вечера вырывалось наружу:
— …и вот потому-то мы тут! — Или:
— …и вот потому-то они там!
Но чаще вся речь была окрашена одним цветом:
— Зина, что тебе дороже: Россия без свободы или свобода без России?
Она думала минуту.
— Свобода без России, — отвечала она, — и потому я здесь, а не там.
— Я тоже здесь, а не там, потому что Россия без свободы для меня невозможна. Но… — и он задумывался, ни на кого не глядя, — на что мне собственно нужна свобода, если нет России? Что мне без России делать с этой свободой?
И он замолкал, пока она искала, что бы такое сказать, слегка ироническое, чтобы в воздухе не оставалось этой тяжести и печали.
Время от времени она принималась расспрашивать меня о моем петербургском детстве, о прошлом. Я не любила говорить, я больше любила слушать. И тогда говорила она. И какая-то смутная тайна чувствовалась в ней, тайна, дававшая ей всю ее своеобразность, и тайна, дававшая ей всё ее страдание.
Она болезненно любила свою мать. Все четыре сестры (братьев не было) болезненно любили свою мать. Она единственная из сестер вышла замуж, три другие остались в девушках, две — в советской России, и за одной из них когда-то ухаживал Карташев и собирался жениться, но вмешался Д. С., и свадьба не состоялась. Эти две женщины оказались во время войны (в 1942 году) в Пскове у немцев, и З. H. пыталась списаться с ними. Они, вероятно, погибли при немецком отступлении. Это были те Тата-Ната, о которых Белый писал в своих воспоминаниях. Третья сестра была высохшая, полуумная Анна Николаевна, состоявшая «при соборе» на улице Дарю (автор книги о житии Тихона Задонского), одна из тех, что чистят образа, чинят ризы и бьют поклоны.
Анна иногда забегала к З. H., сидела на краю стула и беспокойно молчала. Племянника же Д. С. и его жену я никогда у них не видела. Это был сын старшего брата Д. С., Константина Сергеевича, автора книги «Земной рай», утопии 27-го века. Он родился в 1854 году, был профессором Казанского университета, автором нескольких научных книг, но в начале нашего столетия он был судим за совращение малолетней и сослан в Сибирь. Сын его был человек довольно замечательный, изобретатель всевозможных вещей — от усовершенствованной мины до губного карандаша, не пачкающего салфетки. Ни он, ни жена его, видимо, никогда у Мережковских не бывали.
Сколько раз мне, как когда-то Блоку, хотелось поцеловать Д. С. руку, когда я слушала его, говорящего с эстрады, собственно всегда на одну и ту же тему, но трогающего, задевающего десятки вопросов, и как-то особенно тревожно, экзистенциально ищущего ответов, конечно никогда их не находя. Из его писаний за время эмиграции все умерло — от «Царства Антихриста» до «Паскаля» (и «Лютера», который, кажется, еще и не издан). Живо только то, что написано им было до 1920 года: «Леонардо», «Юлиан», «Петр и Алексей», «Александр I и декабристы», да еще литературные статьи, если читать их в свете той эпохи, когда они были написаны (на фоне писаний Михайловского и Плеханова). Из стихов его и десятка нельзя отобрать, и все-таки это был человек, которого забыть невозможно. «Эстетикой» он не интересовался, и «эстетика» отплатила ему: новое искусство с его сложным мастерством и магией ему оказалось недоступно.
В З. Н. тоже не чувствовалось желания разрешать в поэзии формальные задачи, она была очень далека от понимания роли слова в словесном искусстве, но она, по крайней мере, имела некоторые критерии, имела вкус, ценила сложность и изысканность в осуществлении формальных целей. Русский символизм жил недолго, всего каких-нибудь тридцать пять лет, а русские символисты и того меньше: Бальмонт был поэтом пятнадцать лет, Брюсов — двадцать, Блок — восемнадцать — люди короткого цветения. В Гиппиус сейчас мне видна все та же невозможность эволюции, какая видна была в ее современниках, то же окаменение, глухота к динамике своего времени, непрерывный культ собственной молодости, которая становилась зенитом жизни, что и неестественно, и печально, и говорит об омертвении человека.
Я тоже вижу сейчас, что в Гиппиус было многое, что было и в Гертруде Стайн (в которой тоже несомненно был гермафродитизм, но которая сумела освободиться и осуществиться в гораздо более сильной степени): та же склонность ссориться с людьми и затем кое-как мириться с ними, и только прощать другим людям их нормальную любовь, в душе все нормальное чуть-чуть презирая и, конечно, вовсе не понимая нормальной любви. Та же черта закрывать глаза на реальность в человеке и под микроскоп класть свои о нем домыслы, или игнорировать плохие книги расположенного к ней (и к Д. С.) человека. Как Стайн игнорировала Джойса и не приглашала к себе людей, говоривших о Джойсе, так и З. Н. не говорила о Набокове и не слушала, когда другие говорили о нем. Стайн принадлежит хлесткое, но несправедливое определение поколения «потерянного» (как бы санкционирующего эту потерянность); З. Н. считала, что мы все (но не она с Д. С.) попали «в щель истории», что было и неверно, и вредно, и давало слабым возможность оправдания в слабости, одновременно свидетельствуя о ее собственной глухоте к своему веку, который не щель, а нечто, как раз обратное щели.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Жизнь и творчество Дмитрия Мережковского"
Книги похожие на "Жизнь и творчество Дмитрия Мережковского" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Дмитрий Мережковский - Жизнь и творчество Дмитрия Мережковского"
Отзывы читателей о книге "Жизнь и творчество Дмитрия Мережковского", комментарии и мнения людей о произведении.