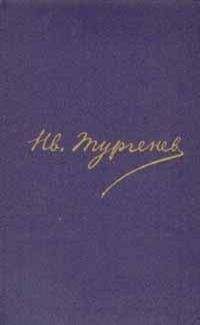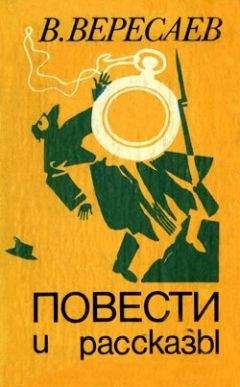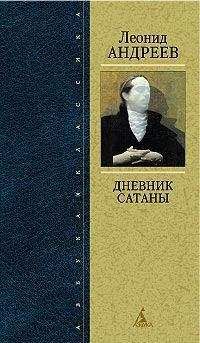Сергей Эфрон - Автобиография. Записки добробольца
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Автобиография. Записки добробольца"
Описание и краткое содержание "Автобиография. Записки добробольца" читать бесплатно онлайн.
Каков же наш путь? Он труден, сложен и ответственен. С волевым упорством, без лживых предвзятостей всматриваемся мы в далекие, родные туманы с тем, чтобы увидеть, познать и почувствовать, а следовательно, и принять послереволюционное лицо России, лицо, а не личину, органическое начало, а не преходящую идеологию, и только всмотревшись и увидав, дадим мы действенный и творческий ответ, наш ответ, собственный, личный, нашим я, нашим опытом, нашим credo данный.
ЭМИГРАЦИЯ
Есть в эмиграции особая душевная астма. Производим дыхательные движения, а воздуха нет. Которая весна, лето, осень и зима протекли, а вот не заполнили ни одного времени года — зима, как весна, лето, как осень. Все подменилось черными и красными цифрами календаря. День превратился в бесцветную временную единицу, отсекаемую неумолимым маятником. Желтый свет электрической лампы сменяет белые лучи солнца. И ничего больше.
Мир обесцветился и обезголосился. Словно вошли мы чудесным образом в кинематографический фильм без красок, без солнца, без воздуха, с белесым светом, с серыми лицами и с математическим, а не космическим пространством. Неутомимый тапер годами наколачивает по клавишам победоносный марш. Фильм мелькает, а… дышать нечем. И чем дальше, тем душнее, тем безвоздушнее.
Эта безвоздушность переносится и на человеческие отношения. Никогда раньше встречи с людьми не были столь многочисленны: в России десятки — здесь сотни знакомых. Но следы от тех бывших встреч насколько осязательнее, насколько длиннее, насколько значительнее здешних зарубежных. Как в поезде, перезнакомившись со всеми сопутчиками, забываешь их, пересев на узловой станции в другой, так и здесь — каждый переезд на новое место, каждая перемена службы связана с наплывом новых людей, новых отношений, новых связей и с почти хирургическим изъятием вашего человеческого вчера. Вместо свободного подбора к душевному и духовному сожительству человеческие отношения построены на случайной механической сцепленности.
И ни в чем так явственно не выявилась эта безвоздушность, как в зарубежной литературе. Эмиграция, столь богатая литературными именами, совершенно лишена своей литературы, художественных произведений, напитанных кровью эмигрантской жизни. «Митина любовь» Бунина, «Золотой узор» Зайцева, «На Блакитном поле» Ремизова. Степуновский «Переслегин», Минцловские рассказы напитаны не здешним, а либо тамошним, либо бывшим. Муратов питается Италией, Алданов историей, и ни один — эмиграцией. А казалось бы есть о чем писать. Казалось бы трагедия нашего изгнанничества достаточно полнокровна для художественного перетворения. И, конечно, кровность этой трагедии не раз будет использована русской литературой в будущем.
Но в чем же дело? Куда исчез весь воздух? Или причиной всему тоска по Родине? Она — душит нас, закрывает глаза и уши, иссушает сердца?
А.В. Пешехонов именно так и отвечает на поставленный вопрос (см. «Волю России» № VII).[65] Он убежден, что громадное большинство эмиграции столь кровно связано с русским бытом, духом, стихией, что не может жить долгое время вне родины, не может органически войти в чуждую среду Запада; что вся эмиграция держится лишь химерической надеждой на скорое, очень скорое возвращение на Родину. Поэтому, рассеивая последовательно ряд миражей, питающих эту надежду, он не видит иного выхода, как либо возвращаться в Россию немедленно
(закрыв глаза на ряд опасностей), либо твердо порешить остаться на чужбине и о возвращении не думать. Разбирая вопрос в личном порядке, он решает его для себя в первом виде: поеду в Россию, как только большевики меня пустят. Единственная задержка, следовательно, в формальном моменте — в разрешении большевиков. Для нас этот вопрос решается много сложнее, и к нему мы вернемся ниже, а сейчас рассмотрим причины «безвоздушности» русской эмиграции.
Мы готовы согласиться с г. Пешехоновым, что громадное большинство эмиграции живо надеждой на скорое возвращение, надеждой не только не обоснованной действительностью, но, более того, существующей наперекор ей. Да, эта надежда — главная действующая сила в образовании всего психического и бытового строя эмиграции. Она — основная предпосылка нашего эмигрантского мироощущения во всей его полноте. Мы смотрим не только на жизнь Запада из окон эмигрантского постоялого двора. И взгляд наш не является взглядом жадного на впечатления путешественника, а мертвым глазом застрявшего в пути, раздраженного, опустошенного, ничем, кроме расписания поездов не интересующегося пассажира. Семь-восемь лет живем мы так, брюзжим друг на друга (совсем как в дороге), судим об окружающем нас мире по станционным строениям и буфетным стойкам, тщетно вперяем взгляд в заросшие чертополохом пути, вслушиваемся, не загудит ли долгожданный паровоз, с жадностью ожидаем прибытия свежей партии газет и особенно раскупаем те из них, которые печатают жирным шрифтом о скором прибытии застрявшего поезда. Одни ожидают броневика, изготовленного в мастерских Запада и носящего название «интервенции», другие — что поезд подастся с Востока и будет он сколочен в Московских и Петербургских мастерских под именем эволюции или революции. Но проходят годы, поезда нет и в помине, раздражение растет, мертвящая скука иссушает. Боремся же мы со скукою тоже по дорожному — газетными листами. Пять лет, как под гипнозом слушаем все тот же спор Керенского с Гессеном, Гессена с Милюковым, Павла Николаевича с Петром Бернгардовичем. Вопрос — кто больше виноват — революционная демократия, старый режим или Временное Правительство, все с той же девственной свежестью разбирается в передовицах. Эмигрантский процесс обратен российскому — в России жизнь побеждает большевизм, здесь — жизнь побеждена десятками идеологий. Свежий воздух и солнечный свет пропускается через ряд политико-идеологических фильтров и спектров. Все кровавое и кровное, пережитое и переживаемое каждым из нас, перерабатывается в бескровную и некровную ходячую политическую формулу.
Вся душность эмигрантского бытия, главным образом, от этих двух причин: ожидание и «идеологичность» (что вовсе не синоним идейности). Ожидание умерщвляет волю к жизни, идеологичность — обесценивает, измельчает и опошляет ее. Ожидание загоняет нас на постоялый эмигрантский двор, «идеологичность» засоряет нам глаза и слух.
Для оправдания своего нежелания видеть, своей бездушности эмигрантская масса восприняла особого рода вульгарное евразийство.[66] «Запад догнивает», «спасение с востока», «кризис безбожного демократизма», «западное мещанство», «механизация жизни и духа» и пр., и пр. — стали ходячими общими фразами. Чаще всего слова эти произносятся теми, кто западной культуры вовсе не знает. Восток представляет себе в виде родного Сивцева Вражка, Тулы, или 9-ой Рождественки на Песках, с атрибутами — самовара, дворника, прислуги, по-старому обставленного дома, по-старому сложившихся патриархальных отношении — всего того, что окружало прежнего обывателя. Русское Православие противопоставляется «безбожному Западу» этими «евразийцами» не в качестве самоценности, а как служебная функция, долженствующая справиться с ненавистным большевизмом (в то же время Муссолини приводит их в восторг, несмотря на борение с ним религиозной части Италии — католичества). Западное мещанство познано из столкновений с квартирными хозяйками, хотя по ядовитости петербургская хозяйка вряд ли уступит немецкой или чешской. А механизация жизни и духа представляется в виде автомобилей, унтергрунда и пр., в то время как подлинной жизни и духа Европы они и не пробовали. Это вульгарное евразийство попросту является линией наименьшего сопротивления. Неприятие и поверхностная критика по плечу каждому, в то время как творческое вхождение в жизнь Запада и со стороны евразийца, и со стороны западника требует волевого напряжения. Я сильно сомневаюсь, чтобы подобный массовый «евразиец», попав так или иначе в современную Россию, почувствовал творческий прилив воли. Ибо именно в современной России, по поступающим оттуда сведениям, пышно расцветает среди молодежи и безбожие, и марксистская механизация жизни и духа (советская мешанина из американизма и коммунизма), и самое бездушное из всех мещанств — нэп. И для того, чтобы бороться с этими явлениями, необходимо противопоставить им и положительную религиозность, и положительную духовность, и положительный идейный аристократизм. Другими словами, пришлось бы идти по линии наибольшего сопротивления. И я почти уверен, что именно этой линии массовый евразиец не выдержит. Для нее необходимо обладать собственным и твердым костяком, а не готовым общим покроем. Костяк же обретается через соприкосновение с жизнью, как бы она ни была далека нашим национальным навыкам. Входить в жизнь не означает подчиняться. Принимая близкое, я противопоставляю далекому — свое незыблемое. И горделивое — «не поймут», «не примут» — чаще всего бывает признаком, что ни понимать, ни принимать нечего. И, может быть, никогда европейцы не были так жадны на «русское» и даже на «евразийское», как теперь.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Автобиография. Записки добробольца"
Книги похожие на "Автобиография. Записки добробольца" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Сергей Эфрон - Автобиография. Записки добробольца"
Отзывы читателей о книге "Автобиография. Записки добробольца", комментарии и мнения людей о произведении.