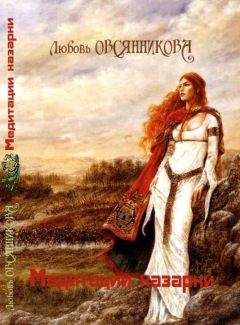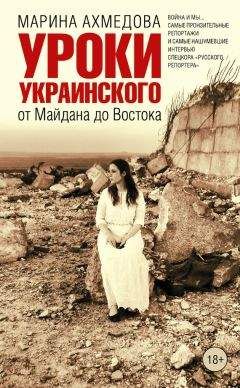Марина Цветаева - Рецензии на произведения Марины Цветаевой
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Рецензии на произведения Марины Цветаевой"
Описание и краткое содержание "Рецензии на произведения Марины Цветаевой" читать бесплатно онлайн.
Описанию роста художественного сознания человека надо бы посвятить многие и многие страницы. Эта тема почти еще не разработана, едва ли даже мимоходом затронута (только у Вячеслава Иванова, насколько мне помнится[435]). Моя схема, конечно, груба и прямолинейна. Но я все-таки надеюсь, что люди, уже соскользнувшие с первой ступени, хотя бы только на волосок, поймут, о чем идет речь. Более общедоступным в нескольких строках можно было бы быть только ценой окончательного искажения сути дела.
Оставив в стороне соображения и возражения узко-литературные, признав «несущественным» все то, что хотелось бы заметить в этой плоскости, на одно махнув рукой и закрыв глаза, к другому привыкнув, — нельзя все-таки «без волненья внимать» голосу Марины Цветаевой: читать статью ее «Твоя смерть» (в последнем выпуске «Воли России»).[436] Цветаева обращается к Рильке и о его смерти говорит. Попутно она рассказывает еще о двух смертях — старой француженки-учительницы и больного двенадцатилетнего мальчика. Рассказ крайне прихотлив, неподражаемо — личен и очень увлекателен. Над обычной журнальной литературой он возвышается, как Монблан. В нем исключительно много содержания, хотя, собственно, нет идей и мыслей. Его устремление не логическое, а психологическое. Цветаева подмечает в одном, якобы простом, чувстве или душевном движении множество спорных подразделений. И чем дальше за ней идешь по этому пути, тем яснее видишь, что это путь бесконечный: внутренняя жизнь человека не упирается в нечто неразложимое, а разветвляется и утончается настолько, насколько зрение способно эти деления уловить.
Кроме «психологии», в цветаевском надгробном слове убедителен тон. Очень редко пафос писателя бывает до конца оправдан и совершенно не смешон. Очень редко за ним не ощущается пустоты и не хочется о нем сказать: «слова, слова, слова!». У Цветаевой лиризм по-настоящему лиричен.
Поэтому, как вывод: несмотря на несочувствие Цветаевой-литератору, несмотря на его полную, глубокую и бесповоротную для нас неприемлемость, порадуемся все-таки «встрече с человеком» — что в наши дни редкость. <…>
М. Слоним
Десять лет русской литературы
<Отрывок>{124}
<…> Работа над словом, отказ от легкой музыкальности стиха, попытка возвращения к полновесности слова, к его первоначальной выразительности, любовь к игре словесной и образам, взамен игры звучаниями и туманными понятиями, — эти черты новой поэзии особенно выступают в творчестве наиболее ярких ее представителей — Пастернака, Цветаевой и Тихонова. Правда, о них труднее говорить, чем о совершенно законченном, занимающемся самоповторением Маяковском или умершем Есенине. Они живут и развиваются. Но они определенно тяготеют к «творческому ремеслу», к усиленной и изощренной работе над словом и стихом. Отсюда и новизна их приемов, словообразований и размеров.
Телеграфическая сжатость стиха достигла особенной силы у Пастернака и Цветаевой. Я больше всего ценю лирические произведения Пастернака. В них — своеобразное перемещение плоскостей, делающее их понимание столь трудным для поверхностного читателя. У Пастернака свое «ощущение мира», которое он передает, опуская всякие поэтические подстрочные примечания. Каждый вызываемый им образ принимает в его стихах совершенно реальную форму, а быстрота их чередования дает впечатление кинематографической одновременности: мы разом воспринимаем несколько сторон явления, несколько аспектов неустанного потока действительности.
Пастернак ощутил тяготение нашей эпохи к эпике, и пытался создать большие исторические поэмы: «1905 год» и «Лейтенант Шмидт». Они ему не удались, и только в отдельных местах вновь с радостью находишь прекрасные образцы мастерской и глубокой пастернаковской лирики.
Цветаева, наоборот, выросла в поэта «большого стиля». Патетическому, приподнятому тону ее поэзии гораздо более пристала форма поэмы, чем лирического стихотворения. «Поэма Горы», «Поэма Конца», «Мóлодец», «Разлука» — лучшее, что она написала за последние годы. Эмоциональная окрашенность ее стиха, его романтический порыв и динамика составляют контраст к его словесной лаконичоности и «ударности». Большое мастерство чисто формального рода, искусство поразительной словесной игры, которую так любит Цветаева, не отняли, однако, у ее поэзии ни ее идейной глубины, ни всего ее чисто идеалистического и мятежного характера.
Пафос и движение цветаевской поэзии чрезвычайно характерны для всего десятилетия. Та реакция против символизма, которая наметилась в нашей литературе еще до войны,[437] дала очень своеобразные результаты потому, что завершилась она в период революции. Поэтому уклон от символической туманности — к определенности, от многословия — к сжатости, от музыкальности — к выразительности, от расплывчатости — к полновесному построению, от риторики книжной — к почти разговорному языку — сопровождался еще и некоторыми иными чертами. Вместе с драматизацией стиха пришла и большая эмоциональная его напряженность; динамике языковой соответствует внутреннее движение, полнокровность и почти романтическая страстность поэзии. И в то же время, начиная от Блока, кончая Тихоновым с его великолепной балладой о Махно,[438] в литературу входит широкая национально-народная струя.
Все это и есть отличия той новой поэтической школы, которая народилась за последние годы. К ней примыкает почти все, что есть живого в русской поэзии. Она-то и представляет собою ныне русскую поэзию — при молчании старого поколения символистов (Вяч. Иванов, Сологуб, А.Белый) и при большем или меньшем приближении к ней отдельных талантливых поэтов, начиная от эпиграмматической Ахматовой и национально-романтического Волошина и кончая классически величавым Мандельштамом и умственно-изощренным, холодным Ходасевичем. <…>
Д. Горбов
Десять лет русской литературы за рубежом
<Отрывки>{125}
В одном из библиографических указателей эмигрантской художественной литературы отмечается, что на 1924 г. число изданий художественных произведений за рубежом достигло внушительной цифры 1300. Из этого, правда, нужно вычесть 700 переизданий классиков и произведений, опубликованных в России до революции. Но и за этим солидным вычетом остается 600 книг, выражающих литературно-художественную продукцию эмигрантов за первые 6 лет, протекших с момента революции. Едва ли будет большой ошибкой считать, что к 10-летию Октября это число выросло приблизительно до 1000.
Но прежде всего: существует ли вообще эмигрантская литература как цельное и законченное культурное явление? Не является ли самое это понятие в значительной мере условным? Теперь, когда оно насчитывает уже 10-летнюю давность, не пора ли присмотреться к нему повнимательнее? О зарубежных художественных произведениях у нас уже немало писали (правда, больше от случая к случаю), кое-что из них издано и у нас (так, очень неплохо представлен И.Бунин. У нас издано почти все лучшее, созданное им в эмиграции, — «Митина любовь», «Дело корнета Елагина», «Солнечный удар», «Мордовский сарафан» и другие). Наконец, многое из того, что было эмигрантским, перестало быть таковым: такие писатели, как Алексей Толстой, Гл. Алексеев, Соколов-Микитов, Дроздов[439] и другие давно вступили в ряды советских художников слова, активно участвуют в создании и развитии литературы пооктябрьской России. Все это как будто делает наш вопрос — о цельности, замкнутости понятия эмигрантской художественной литературы — вполне своевременным.
Всматриваясь в сравнительно многочисленную группу писателей-эмигрантов (здесь мы имеем в виду не всех авторов «тысячи» зарубежных беллетристических изданий, а лишь тех из них, которые являются — большими или малыми — но художниками), мы прежде всего видим, что группа эта очень неоднородна по своим классово-культурным признакам. На первом плане — и художественном и общественном — мы видим доминирующих здесь художников-символистов: Мережковского, Гиппиус, Бунина, Зайцева и примыкающих к символизму — Xодасевича, М.Цветаеву, Ф.Степуна (как романиста) и других. Вне зависимости от наличия у каждого из этих художников индивидуальных и даже групповых особенностей, иногда очень значительных (так, Бунин и Зайцев, собственно, не символисты, а представители так называемого неореализма), они роднятся одной столь существенной чертой, что общее решительно отодвигает различия на второй план. Эта существенная объединяющая всю группу черта с предельной четкостью и ясностью сформулирована в известном смысле наиболее последовательной представительницей группы З.Гиппиус в следующем стихотворении, которому ни в коем случае нельзя отказать в энергии и выразительности:
Мне —
о земле
— болтали сказки!
«Есть человек. Есть любовь».
А есть —
лишь злость.
Личины. Маски.
Ложь и грязь. Ложь и кровь.
Когда
предлагали
мне родиться —
Не говорили, что мир такой.
Как же
я мог
не согласиться?
Ну а теперь — домой, домой.[440]
Эти строки, сухие и краткие, — программа. <…>
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Рецензии на произведения Марины Цветаевой"
Книги похожие на "Рецензии на произведения Марины Цветаевой" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Марина Цветаева - Рецензии на произведения Марины Цветаевой"
Отзывы читателей о книге "Рецензии на произведения Марины Цветаевой", комментарии и мнения людей о произведении.