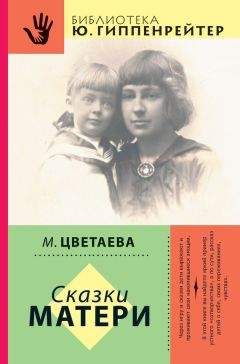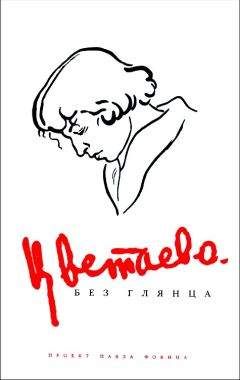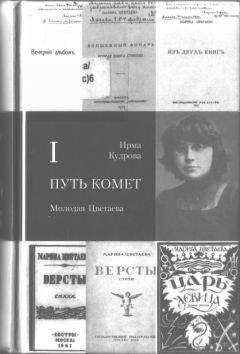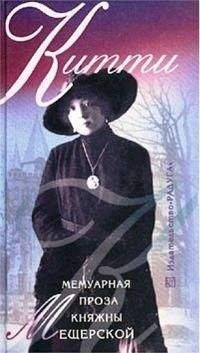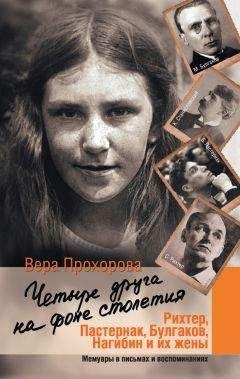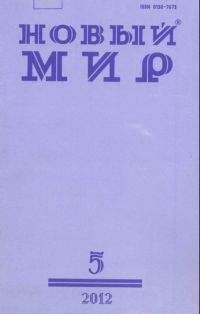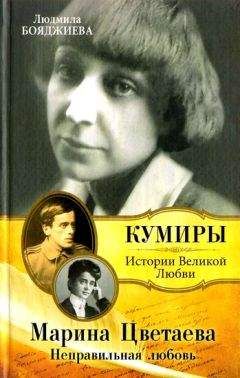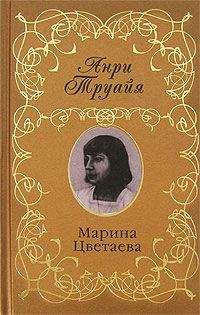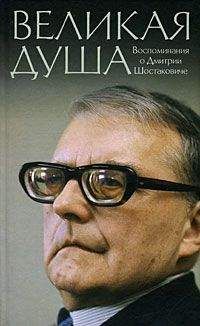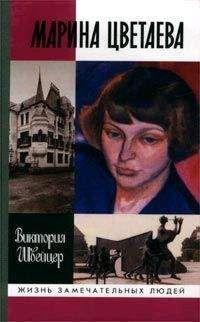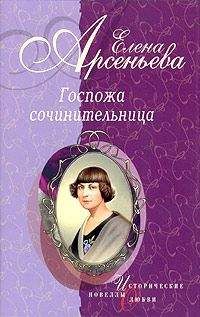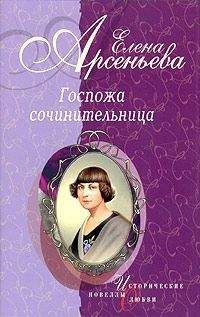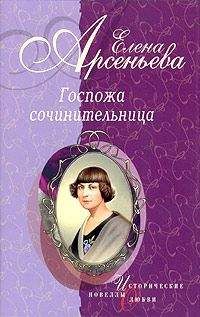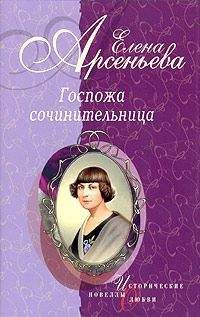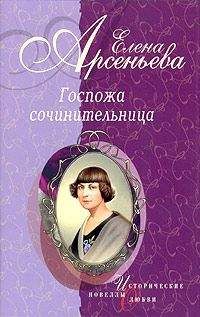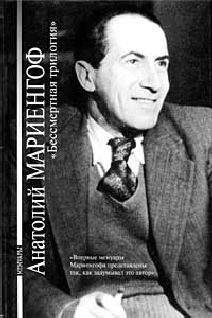Марина Цветаева - Мемуарная проза
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Мемуарная проза"
Описание и краткое содержание "Мемуарная проза" читать бесплатно онлайн.
Не: «два слова о Распутине», а: в двух словах — Распутин. Есть у Гумилева стих — «Мужик» — благополучно просмотренный в свое время царской цензурой — с таким четверостишием:
В гордую нашу столицу
Входит он — Боже спаси! —
Обворожает Царицу
Необозримой Руси…
Вот, в двух словах, четырех строках, все о Распутине, Царице, всей той туче. Что в этом четверостишии? Любовь? Нет. Ненависть? Нет. Суд? Нет. Оправдание? Нет. Судьба. Шаг судьбы.
Вчитайтесь, вчитайтесь внимательно. Здесь каждое слово на вес — крови.
В гордую нашу столицу (две славных, одна гордая: не Петербург встать не может) входит он (пешая и лешая судьба России!) — Боже спаси! — (знает: не спасет!), обворожает Царицу (не обвораживает, а именно, по-деревенски: обворожает) необозримой Руси — не знаю, как других, меня это «необозримой» (со всеми звенящими в нем зорями) пронзает — ножом.
Еще одно: эта заглавная буква Царицы. Не раболепство, нет! (писать другого с большой еще не значит быть маленьким), ибо вызвана величием страны, здесь страна дарует титул, заглавное Ц — силой вещей и верст. Четыре строки — и все дано: и судьба, и чара, и кара.
Объяснять стихи? Растворять (убивать) формулу, мнить у своего простого слова силу бóльшую, чем у певчего— сильнее которого силы нет, описывать — песню! (Как в школе: «своими словами», лермонтовского «Ангела», да чтоб именно своими, без ни одного лермонтовского — и что получалось, Господи! до чего ничего не получалось, кроме несомненности: иными словами — нельзя. Что поэт хотел сказать этими стихами? Да именно то, что сказал.)
Не объясняю, а славословлю, не доказую, а указую: указательным на страницу под названием «Мужик», стихо-творение, читателем и печатью, как тогда цензурой и по той же причине — незамеченное. А если есть в стихах судьба — так именно в этих, чара — так именно в этих. История, на которой и «сверху» (правительство) и «сбоку» (попутчики) так настаивают сейчас в Советской литературе — так именно в этих. Ведь это и Гумилева судьба в тот день и час входила — в сапогах или валенках (красных сибирских «пимах»), пешая и неслышная по пыли или снегу.
Надпиши «Распутин», всé бы знали (наизусть), а «Мужик» — ну, еще один мужик. Кстати, заметила: лучшие поэты (особенно немцы: вообще-лучшие из поэтов) часто, беря эпиграф, не проставляют откуда, живописуя — не проставляют — кого, чтобы, помимо исконной сокровенности любви и говорения вещи самой за себя, дать лучшему читателю эту — по себе знаю! — несравненную радость: в сокрытии — открытия.
___________
Дорогой Гумилев, породивший своими теориями стихосложения ряд разлагающихся стихотворцев, своими стихами о тропиках — ряд тропических последователей —
Дорогой Гумилев, бессмертные попугаи которого с маниакальной, то есть неразумной, то есть именно попугайной неизменностью, повторяют ваши — двадцать лет назад! — молодого «мэтра» сентенции, так бесследно разлетевшиеся под колесами вашего же «Трамвая» —
Дорогой Гумилев, есть тот свет или нет, услышьте мою, от лица всей Поэзии, благодарность за двойной урок: поэтам — как писать стихи, историкам — как писать историю.
Чувство Истории — только чувство Судьбы.
Не «мэтр» был Гумилев, а мастер: боговдохновенный и в этих стихах уже безымянный мастер, скошенный в самое утро своего мастерства-ученичества, до которого в «Костре» и окружающем костре России так чудесно — древесно! — дорос.
___________
Город Александров. 1916 год. Лето. Наискосок от дома, под гору, кладбище. Любимая прогулка детей, трехлетних Али и Андрюши. Точка притяжения — проваленный склеп с из земли глядящими иконами.
— Хочу в ту яму, где Боженька живет!
Любимая детей и нелюбимая — Осипа Мандельштама. От этого склепа так скоро из Александрова и уехал. (Хотел — «всю жизнь!»)
— Зачем вы меня сюда привели? Мне страшно. Мандельштам—мой гость, но я и сама гость. Гощу у сестры, уехавшей в Москву, пасу ее сына. Муж сестры весь день на службе. семья—я, Аля, Андрюша, нянька Надя и Осип Мандельштам.
Мандельштаму в Александрове, после первых восторгов, не можется. Петербуржец и крымец — к моим косогорам не привык. Слишком много коров (дважды в день мимо-идущих, мимо-мычащих), слишком много крестов (слишком вечно стоящих). Корова может забодать. Мертвец встать. — Взбеситься. — Присниться. — На кладбище я, по его словам, «рассеянная какая-то», забываю о нем, Мандельштаме, и думаю о покойниках, читаю надписи (вместо стихов!), высчитываю, сколько лет — лежащим и над ними растущим; словом: гляжу либо вверх, либо вниз… но неизменно от. Отвлекаюсь.
— Хорошо лежать!
— Совсем не хорошо: вы будете лежать, а я по вас ходить.
— А при жизни не ходили?
— Метафора! я о ногах, даже сапогах говорю.
— Да не по вас же! Вы будете — душа.
— Этого-то и боюсь! Из двух: голой души и разлагающегося тела еще неизвестно чтó страшней.
— Чего же вы хотите? Жить вечно? Даже без надежды на конец?
— Ах, я не знаю! Знаю только, что мне страшно и что хочу домой.
Бедные мертвые! Никто о вас не думает! Думают о себе, который бы мог лежать здесь и будет лежать там. О себе. лежащем здесь. Мало, что у вас Богом отнята жизнь, людьми — Мандельштамом с его «страшно» и мною с моим «хорошо» — отнимается еще и смерть! Мало того, что Богом — вся земля, нами еще и три ваших последних ее аршина.
Одни на кладбище приходят — учиться, другие — бояться, третьи (я) — утешаться. Всé — примерять. Мало нам всей земли со всеми ее холмами и домами, нужен еще и ваш холм, наш дом. Свыкаться, учиться, бояться, спасаться… Всé — примерять. А потом невинно дивимся, когда на повороте дороги или коридора…
Если чему-нибудь дивиться, так это редкости ваших посещений, скромности их, совестливости их… Будь я на вашем месте…
Тихий ответ: «Будь мы на твоем…»
___________
Вспоминаю другое слово, тоже поэта, тоже с Востока, тоже впервые видевшего со мною Москву — на кладбище Новодевичьего монастыря, под божественным его сводом:
— Стоит умереть, чтобы быть погребенным здесь. Дома — чай, приветственный визг Али и Андрюши. Монашка пришла — с рубашками. Мандельштам шепотом:
— Почему она такая черная? Я, так же:
— Потому что они такие белые!
Каждый раз, когда вижу монашку (монаха, священника, какое бы то ни было духовное лицо) — стыжусь. Стихов, вихров, окурков, обручального кольца — себя. Собственной низости (мирскости). И не монах, а я опускаю глаза.
У Мандельштама глаза всегда опущены: робость? величие? тяжесть век? веков? Глаза опущены, а голова отброшена. Учитывая длину шеи, головная посадка верблюда. Трехлетний Андрюша — ему: «Дядя Ося, кто тебе так голову отвернул?» А хозяйка одного дома, куда впервые его привела, мне: «Бедный молодой человек! Такой молодой и уже ослеп?»
Но на монашку (у страха глаза велики!) покашивает. Даже, пользуясь ее наклоном над рубашечной гладью, глаза распахивает. Распахнутые глаза у Мандельштама — звезды, с завитками ресниц, доходящими до бровей.
— А скоро она уйдет? Ведь это неуютно, наконец. Я совершенно достоверно ощущаю запах ладана.
— Мандельштам, это вам кажется!
— И обвалившийся склеп с костями — кажется? Я, наконец, хочу просто выпить чаю!
Монашка над рубашкой, как над покойником:
— А эту — венчиком…
Мандельштам за спиной монашки шипящим шепотом:
— А вам не страшно будет носить эти рубашки?
— Подождите, дружочек! Вот помру и именно в этой — благо что ночная — к вам и явлюсь!
За чаем Мандельштам оттаивал.
— Может быть, это совсем уже не так страшно? Может быть, если каждый день ходить — привыкнешь? Но лучше завтра туда не пойдем…
Но завтра неотвратимо шли опять.
___________
А однажды за нами погнался теленок.
На косогоре. Красный бычок.
Гуляли: дети, Мандельштам, я. Я вела Алю и Андрюшу, Мандельштам шел сам. Сначала все было хорошо, лежали на траве, копали глину. Норы. Прокапывались друг к другу и когда руки сходились — хохотали, — собственно, он один. Я, как всегда, играла для него.
Солнце выедало у меня — русость, у него — темность. — Солнце, единственная краска, для волос мною признаваемая! — Дети, пользуясь игрой взрослых, стягивали с голов полотняные грибы и устраивали ими ветер. Андрюша заезжал в лицо Але. Аля тихонько ныла. Тогда Андрюша, желая загладить, размазывал глиняными руками у нее по щекам голубоглазые слезы. Я, нахлобучив шапки, рассаживала. Мандельштам остервенело рыл очередной туннель и возмущался, что я не играю. Солнце жгло.
— До-о-мой!
Нужно сказать, что Мандельштаму, с кладбища ли, с прогулки ли, с ярмарки ли, всегда отовсюду хотелось домой. И всегда раньше, чем другому (мне). А из дому — непреложно — гулять. Думаю, юмор в сторону, что когда не писал (а не-писал — всегда, то есть раз в три месяца по стиху) — томился. Мандельштаму, без стихов, на свете не сиделось, не ходилось — не жилось.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Мемуарная проза"
Книги похожие на "Мемуарная проза" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Марина Цветаева - Мемуарная проза"
Отзывы читателей о книге "Мемуарная проза", комментарии и мнения людей о произведении.