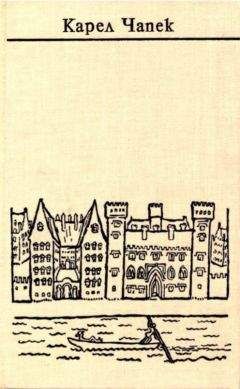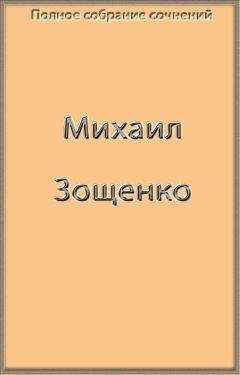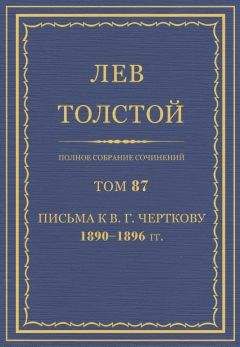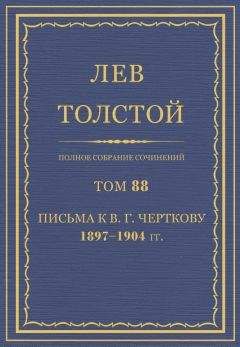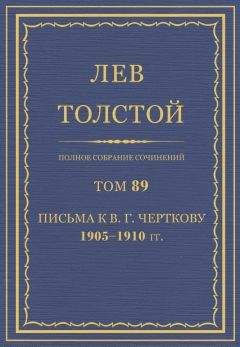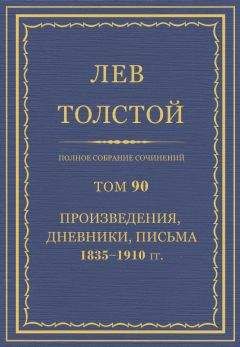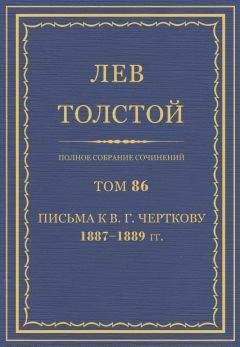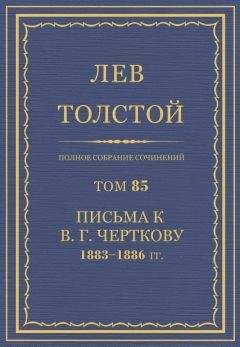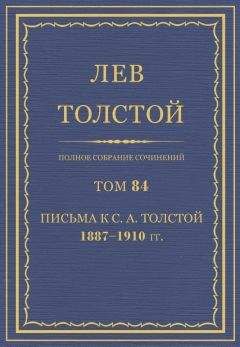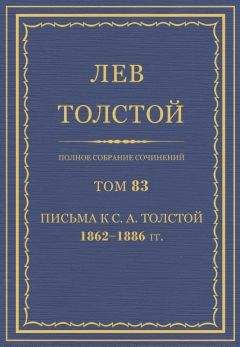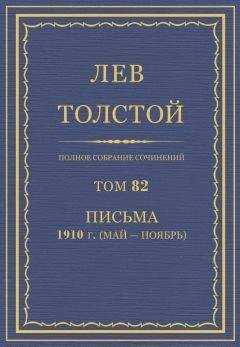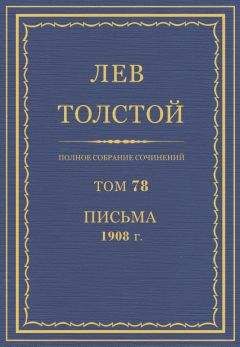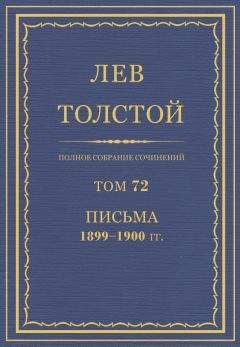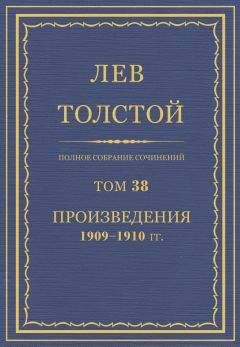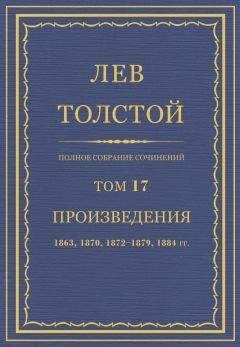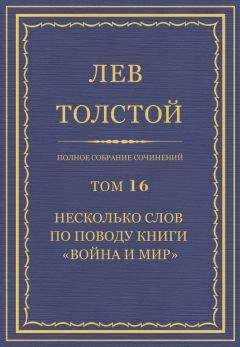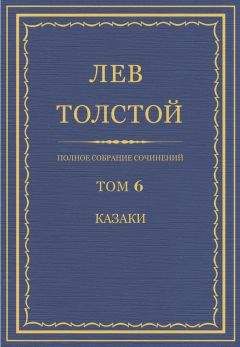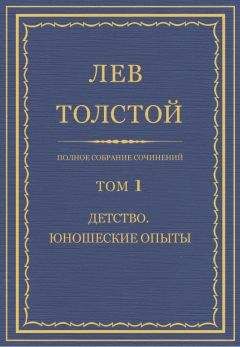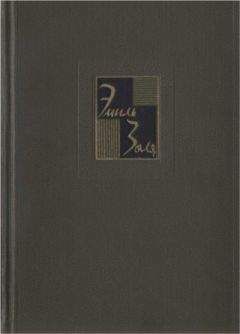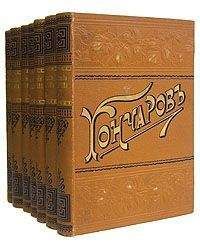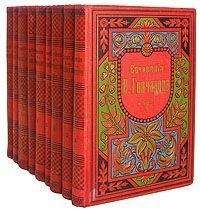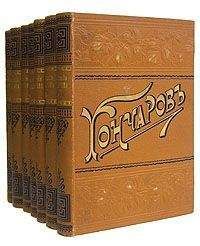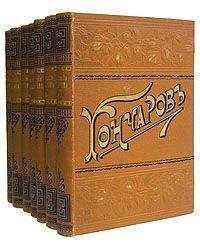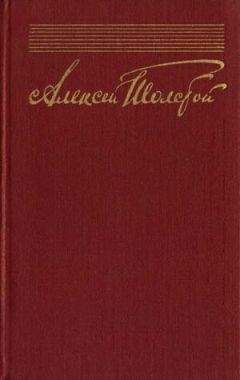Иван Гончаров - Полное собрание сочинений и писем в двадцати томах. Том 6.
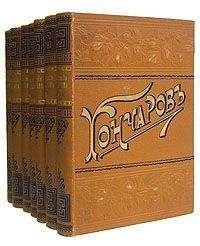
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Полное собрание сочинений и писем в двадцати томах. Том 6."
Описание и краткое содержание "Полное собрание сочинений и писем в двадцати томах. Том 6." читать бесплатно онлайн.
203
отменяет проблемы гоголевского присутствия в «Обломове»; из всех произведений писателя, пожалуй, именно этот роман «обнаруживает наиболее глубокую творческую связь с поэтикой Гоголя».1 Стиль и характерология Гоголя, трагические и надрывно-исповедальные мотивы его творчества позволяют отчетливее понять не только близость «приемов письма» Гончарова к гоголевским, но и все своеобразие художественного мира Гончарова, о чем точно и тонко было сказано еще И. Ф. Анненским: «Гончаров не переживал тяжелой полосы гоголевского самообнажения и самобичевания, он не терял ни любви к людям, ни веры в людей, как Гоголь. В жизни его были крепкие устои и вера в медленный, но прочный прогресс. Эти коренные различия в обстановке творчества обусловили в Гончарове отобщение от Гоголя. Но уйти от него в материальной, эпической стороне своих типов он, конечно, не мог. ‹…› Для Гоголя крепостная Россия была населена еще Простаковыми и Скотиниными, для Гончарова ее населяли уже Коробочки, Собакевичи, Маниловы. Наблюдения Гончарова невольно располагались в душе по определенным, поставленным Гоголем, типам. Гоголь дал прототип Обломовки в усадьбе Товстогубов. Он неоднократно изображал и мягкую, ленивую натуру, выросшую на жирной крепостнической почве: Манилов, Тентетников, Платонов. Корни Обломова сюда, по-видимому, и уходят. Впрочем, из этих трех фигур законченная и художественная одна – Манилов; Тентетников и Платонов – это только эскизы, и потому сравнивать их с Обломовым совсем неправильно. Кроме того, в Тентетникове и Платонове преобладающая черта – это вечная скука, недовольство, чуждые Обломову. Обломов, несомненно, и гораздо умнее Манилова, и совершенно лишен той восторженности и слащавости, которые в Манилове преобладают» («Обломов» в критике. С. 225).2 Логичен и вывод А. Г. Цейтлина: «…образом Обломова
204
Гончаров в значительной степени преодолел психологическую однопланность гоголевских характеров: в нем меньше, нежели в Ноздреве или Коробочке, чувствуется „доминанта”» (Цейтлин. С. 154).
***
«Сон Обломова» был опубликован в 1849 г.; тем же годом была помечена Гончаровым и публикация части первой в «Отечественных записках». В части первой закономерно упомянуто много реалий общественной и культурной жизни России и Европы 1840-х гг. (присутствуют они и в других частях романа, но не в такой концентрации). Очевидно, что целый ряд заметных литературных явлений этого времени прямо или косвенно отразился в проблематике романа. Необходимо назвать статью западника К. Д. Кавелина «Взгляд на юридический быт древней России» (1847), с основными положениями которой полемизировал славянофил Ю. Ф. Самарин («О мнениях „Современника”, исторических и литературных», 1847). Кавелин, в частности, так живописал застойную, спящую, застывшую в определенных традициями рамках растительную жизнь: «Здесь человек как-то расплывается; его силы, ничем не сосредоточенные, лишены упругости, энергии и распускаются в море близких, мирных отношений. Здесь человек убаюкивается, предается покою и нравственно дремлет. Он доверчив, слаб, беспечен, как дитя. О глубоком чувстве личности не может быть и речи».1 «Начало личности, – писал Кавелин там же, – узаконилось в нашей жизни. Теперь пришла его очередь действовать и развиваться. Но как!».2 И то был не «сугубо научный,
205
академический, а „горячий”, публицистический вывод-вопрос Кавелина», связанный «с новым этапом русской жизни, который Гончаров назвал Пробуждением. ‹…› Это, конечно, вопрос и автора „Обломова”» (Отрадин. С. 85). Отразились в «Сне Обломова» и полемические выпады против славянофилов В. Г. Белинского; такой «отраженной», к примеру, является спроецированная в современность ирония Гончарова: «Нянька с добродушием повествовала сказку о Емеле-дурачке, эту злую и коварную сатиру на наших прадедов, а может быть, еще и на нас самих» (наст. изд., т. 4, с. 116). Именно такие иронические авторские пояснения и реплики и предопределили устойчиво отрицательное отношение славянофилов (и почвенников) как к «Сну Обломова», так и к роману в целом.1
А. П. Милюков в статье 1860 г. о романе с целью показать разницу между Обломовым и «лишними людьми» (от Онегина до Рудина) обратился к поэме А. Н. Майкова «Две судьбы» (1845) и ее главному герою Владимиру – «едва ли не самой печальной личности, может быть оттого, что он жил в более тяжелое время»; герой этот, «несмотря на жалкую развязку его жизни и нравственное падение, все еще симпатичен» в отличие от Обломова, этого олицетворения «одной врожденной апатии» («Обломов» в критике. С. 129-130).2 Тем не менее «нравственное падение» Владимира, героя поэмы друга Гончарова, которую он, возможно, читал еще в рукописи, несомненно роднит его с «погасшим» Обломовым последней части романа. Владимир эпилога поэмы абсолютно не похож на живущего бурной внутренней жизнью молодого человека первых глав. Сбылось то, о чем он горестно размышлял в самом общем плане (еще одна вариация на темы «Думы» М. Ю. Лермонтова); Милюков с небольшими неточностями
206
цитирует приводимый ниже отрывок из «думы» героя:
Ах, отчего мы стареемся рано
И скоро к жизни холодеем мы!
Вдруг никнет дух, черствеют вдруг умы!
Едва восход блеснет зарей румяной,
Едва дохнет зародыш высших сил,
Едва зардеет пламень благородный,
Как вдруг, глядишь, завял, умолк, остыл.
1
Все эти идеальные стремления и порывы герой поэмы пережил, от них в его душе остался лишь
Осадок жалкий – черная хандра!
2
Остались в прошлом и переживания, связанные с Италией, которая воспета во второй главе поэмы:
Как люблю Фраскати в праздник летний!
Лавр, кипарис высокой головой,
И роз кусты, и мирт, и дуб столетний
Рисуются так ярко на густой
Лазури неба и на дымке дали,
На бледном перламутре дальних гор.
Орган звучит торжественно. Собор
Гирляндами увит. В домах алеют
Пурпурные ковры из окон. Тут
С хоругвями по улицам идут
Процессии монахов; там пестреют,
Шумят толпы; луч солнца золотой,
Прорвавши свод аллеи вековой,
Вдруг обольет неведомым сияньем
Покров, главу смуглянки молодой:
Картина, полная очарованьем!
Для пришлеца она как пышный сон!
3
Параллелью итальянским картинам в поэме (и в других произведениях Майкова) являются юношеские мечты, восторги и слезы Обломова, о которых ему напомнил Штольц: «Боже мой! Ужели никогда не удастся взглянуть на оригиналы и онеметь от ужаса, что ты стоишь перед произведением Микеланджело, Тициана и попираешь почву Рима? Ужели провести век и видеть эти мирты, кипарисы и померанцы в оранжереях, а не на их родине? Не
207
подышать воздухом Италии, не упиться синевой неба!» (наст. изд., т. 4, с. 181).1
Эти слова заставляют вспомнить не только итальянские мотивы в поэме «Две судьбы», но и поэтический цикл Майкова «Очерки Рима», создававшийся им в 1840-е гг. в непосредственном контакте с Гончаровым, который исполнял обязанности друга-рецензента. Майков писал Гончарову из Рима, делясь своими впечатлениями: «Словом, что мне понравилось и поразило меня более всего, – это Колизей и Аполлон Бельведерский. Да-с, Аполлон Бельведерский лучше всего в мире, лучше всех творений Божиих и человеческих. В нем вы видите Бога. Уходите от него, полные его обаянием. ‹…› А Колизей? После Аполлона, моего божественного патрона, это лучшая штука» (ЛН Гончаров. С. 342). 2 марта 1842 г. в большом письме к А. Н. Майкову Гончаров откликается на письма Н. А. Майкова и А. Н. Майкова к В. А. Солоницыну, с которыми последний его ознакомил. В письме А. Н. Майкова содержался и текст стихотворений поэта, подробный разбор которых по просьбе Евг. П. Майковой дает Гончаров в уже упомянутом письме (судя по текстам стихотворений «Игры» и «Древний мир» в окончательных редакциях, Майков прислушался к советам друга). Очевидно, что в 1840-е гг. во многом благодаря тому, что близкие Гончарову люди жили тогда в Италии2 и вдохновенно писали как о великом искусстве прежних мастеров, так и современных ее нравах, Италия органично вошла в круг интересов и поэтических грез писателя, читавшего послания друзей «с жадностию» и, подобно герою-поэту своего будущего романа, мечтавшего посетить чудесную страну.
Удивительно, что позднее Гончаров, несмотря на уговоры друзей, так и не решился на это путешествие (в отличие от таких героев своих романов, как Штольц, Ильинская, Райский). Из письма к С. А. Никитенко от 15(27) мая
208
1869 г. явствует, что у Гончарова даже была итальянская виза, которой он, однако, не воспользовался: «У меня на паспорте есть и итальянская visa Пинто, но это только так, потешить воображение, потому что Стасюлевич однажды сказал, что, может быть, проедут в Венецию. Куда мне в Италию! Лень-то какая! А чемодан?». В следующем году в письме от 11 ноября к С. А. Толстой, собиравшейся в Италию и звавшей туда Гончарова, он уже с грустным юмором отвечает, идентифицируя себя с Обломовым: «В Италию! Да как же это я: ведь говорят, что я Обломов, и даже так меня устроили по-обломовски! И судьба вместо Италии, кажется, готовит мне обломовский конец: вон с осени пальцы на руках пухнут, ноги горят, в голове шум!». А между тем паломничество в Италию, как это следует из содержания письма Гончарова от 25 марта 1873 г. к А. В. Никитенко, было его давней и заветной мечтой: «…недавно дорывался в Италию, где не был и где мне всегда мечталось видеть Венецию, Флоренцию, Рим и Неаполь: пожалуй – туда, может быть, на первых, горячих порах желания и поехал бы, так как это не так далеко, как вокруг света, но туда надо ехать осенью или зимой, а для меня зимнее странствие немыслимо…».
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Полное собрание сочинений и писем в двадцати томах. Том 6."
Книги похожие на "Полное собрание сочинений и писем в двадцати томах. Том 6." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Иван Гончаров - Полное собрание сочинений и писем в двадцати томах. Том 6."
Отзывы читателей о книге "Полное собрание сочинений и писем в двадцати томах. Том 6.", комментарии и мнения людей о произведении.