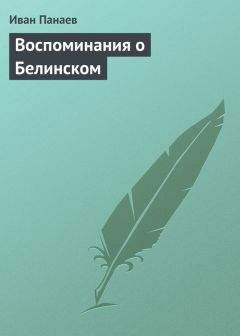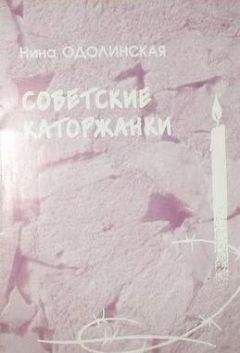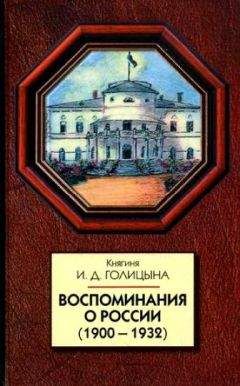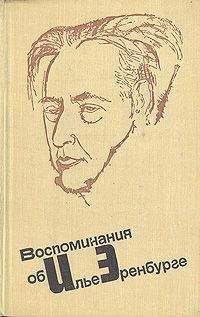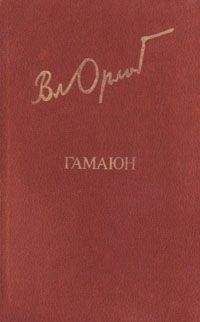Иван Твардовский - Родина и чужбина

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Родина и чужбина"
Описание и краткое содержание "Родина и чужбина" читать бесплатно онлайн.
Воспоминания родного брата поэта Александра Твардовского. Раскулачивание, ссылка, плен, лагеря - в общем обычная жизнь в России 20 века.
Сам старик Шупинский все еще продолжал работать, ходил на конюшню, но уже без всяких надежд на что-то лучшее. Глядя на него, я вспоминал, что именно он слыл невероятным силачом в округе наших деревень. Вряд ли кто мог поверить в это теперь. Едва передвигаясь, исхудавший и потому нескладный, он не мог уже ни встать, ни сесть без того, чтобы не опереться своими костлявыми свисающими руками. Две другие семьи нам прежде не были знакомы. Одна из них — старик и старуха Лисовские. Она совсем не вставала, была в крайне тяжелом состоянии, а старик еще держался на ногах и неотступно ухаживал за больной. Вскоре он остался совсем один. Какое это было горе для старого человека! Он стал никому не нужен.
В первый же день мать рассказала нам кое-что об отце. Летом 1931 года, августовской ночью, он попрощался и с тринадцатилетним Павлушей покинул Парчу. Это было трудное расставанье: он уходил от своей семьи, от своих детей, кому должен был помогать и хотел помогать, но, оставаясь вместе с ними, не мог этого сделать. Но ведь, и уходя от них, и ради них, понимал, что было слишком мало шансов на благополучный успех. И все же избрал последнее — уйти. В неизвестность.
Планов его мать не знала и рассказать могла лишь самую малость. Работает кузнецом в совхозе «Гигант» близ Можайска, пишет скупо, называет себя Тарасовым Демьяном Никитьевичем, каждый месяц присылает сто рублей почтовым переводом. Подробностей о себе не сообщал.
А наутро следующего дня нам предстояло объявиться коменданту поселка. Так сказать, с повинной. Это не казалось простым вопросом, неотвязно думалось: "Что нас ждет? Как посмотрят, что скажут?"
Ведь возвратились мы на прежнее место ссылки спустя более полугода, да и не по своей воле. Для переселенцев комендант был что называется главной фигурой, от которого зависело все. Но не явиться нельзя, и мы пошли к комендантскому домику, туда, где стояли бараки в полутора километрах от спецпереселенческого поселка.
В промерзшем коридорчике бревенчатого домика нас встретил пожилой спецпереселенец вопросом: "Чи, хлопци, до коменданту?" Удостоверившись, что прибыли мы из Нижней Туры, он ушел доложить. Дверь тут же приоткрылась, и мы услышали: "Войдите!"
Сидевший за столом еще довольно молодой человек пристально посмотрел на нас, похоже, желая разгадать, кто мы есть, и, помедлив, спокойно, добродушно сказал: «Слушаю», продолжая всматриваться в наши лица. Это был уже другой, новый комендант, и опознать нас он, конечно, не мог. Нам не было нужды что-либо придумывать о себе, и Константин рассказал все как было. Вопреки нашим предположениям и представлениям, комендант производил приятное впечатление. Опершись подбородком на тыльную часть руки, он держал во второй руке между пальцев папиросу, изредка поднося ее ко рту и делая короткие затяжки. Сидя почти неподвижно, он внимательно слушал рассказ Константина. Его светлое, правильных черт молодое лицо, в котором угадывалось понимание и сочувствие, и то, что он не прервал рассказа, снимали с нас напряженность, и на душе становилось теплее.
— Вот все, что было и что есть, — закончил брат. Мы продолжали стоять. Комендант как-то оживился, вроде бы даже вздохнул и, придвинув к себе отрывной блокнот, ничего так и не спросив, бегло-бегло написал две записки.
— Вот что, ребята, я все понял. Судьба, ясно, незавидная, больше я ничего не могу. По этой вот, — он потряс листком, — получите паек на десять дней, а с этой — пойдете к десятнику Ворошилову.
Каким-то неписаным законом мы были лишены права употреблять слово «товарищ» при обращении к начальству, в том числе и к коменданту. С этим мы почти свыклись и притерпелись, но в тот момент, получая записки, эта лишенность, по существу, элементарного права отозвалась глубокой душевной болью и чувством невысказанного протеста. Нужно было сказать: "Спасибо, товарищ комендант!", и это само просилось наружу, но… права на такое мы не имели. Обращаться же со словом «гражданин» мы всячески избегали, как бы сохраняя тем самым протест нашему социальному неравенству. Поэтому свою благодарность за человеческое отношение к нам мы выразили только одним словом: "Спасибо!"
Мы шли от коменданта с облегченной душой: никаких упреков, никаких отчитываний комендант не сделал, и нам хотелось поделиться своей радостью с матерью, которая опасалась, как бы нас не угнали в штрафную роту.
В тот же день мы получили продукты: восемь килограммов муки, три килограмма крупы, сколько-то сахара, рыбы — паек на десять дней по норме. Затем побывали в бане, прожарили всю свою "одежку, что на коже", встретились и с сестрой, которая работала на стороне — уборщицей в бараке вербованных лесорубов. Как и мать, она не удержала слез: больно ей было видеть нас, родных и неузнаваемых. Самые малые, Маша и Василек, сидели молча. Лишенные детских радостей, они успели увидеть столько человеческих мытарств и слез, что их души как бы состарились и окаменели. Они не плакали, но было понятно, что наше возвращение повергло их в еще большее уныние.
Вся эта обстановка не позволяла нам ждать у моря погоды, надо было начинать работать, и наша готовность была такой, чтобы положить все силы, но доказать самоотверженным трудом, что мы способны противостоять трудностям. Вот только упускали мы в те минуты из вида, что наша одежда была совсем непригодной для работы в лесу в зимнюю стужу. Еще хуже было с бельем. Будучи в Пермском пересыльном лагере, где заставляли нас работать на складах зерна, я сшил из мешков штаны себе и брату. Но что это были за штаны! Смех и грех. Лишь приблизительно знал я, как скроить, да и нитки надо было добывать из тех же мешков, и шить опасаясь, в полутьме, на третьей полке нар, чуть ли не гвоздем вместо иголки — лишь бы можно было надеть на себя вместо кальсонов. Одним словом, нужда — учитель. Теперь же те мешочные штаны совсем расползлись, и нам вот как нужно было их заменить. Правда, в поселке можно было достать у переселенцев-украинцев за малую плату холщовые подштанники, но мы боялись, что вместе с покупкой окажется тифозная вошь, и тогда, считай, крышка. Поэтому решили сшить сами, хотя шить-то еще не из чего было, — ведь нужно было найти метра четыре полотна. Наконец мать нашла полотно, и вместе с ней мы сшили двое кальсонов.
Тем временем брат получил лапти, рукавицы, подлатали верхнее барахлишко и — готовы к делу.
В записке к десятнику Ворошилову было написано рукой коменданта следующее:
"Ворошилову,
Направляю для использования на повале спецпереселенцев Твардовских Ивана и Константина".
Ниже стояла подпись, прочесть которую мы не смогли.
С этой запиской мы и представились десятнику, которого знали еще до побега. Это средних лет мужчина, коренной здешний житель, хорошо знавший всю бескрайнюю тайгу, и чувствовал он себя в ней, как в родной стихии. Обширные территории прибрежных районов реки Ляли делились на кварталы, каждый из которых имел номер. Мы поражались той легкости, с которой ориентировался этот человек. Он все знал и помнил, даже отдельные деревья. Каким-то особым чутьем определял расстояния и время суток, мог безошибочно пройти к любому месту, прокладывая след по таежной целине. То, что он был совершенно малограмотный, можно было заметить лишь тогда, когда он что-либо писал, — это давалось ему с трудом, но в делах и суждениях был опытен до удивления.
Кстати, надо отдать должное коренным уральцам таежных мест: они резко отличались от нас, привезенных из западных областей, и расторопностью, и даже какой-то лихостью, да и просто умением работать в суровых условиях. Топор в руках коренного уральца-лесоруба в работе взлетал и писал кривые так ловко, так уверенно и послушно, что при взгляде на него невольно всплывал образ жонглера-циркача. И мы с пониманием и уважением признавали эти достоинства местных жителей. Но, к сожалению, наше положение, нашу неприспособленность и физическую слабость они не понимали и не хотели понять. Такое отношение к спецпереселенцам усугублялось еще и тем, что звучавший повсюду лозунг "Ликвидировать кулачество как класс!" многими из низовых руководящих работников был понят в том смысле, что все позволительно по отношению к спецпереселенцам, которые в массе своей голодали, болели сыпным тифом, умирали.
Убежденное пренебрежение и равнодушие к спецпереселенской молодежи и даже к детям горечью накапливалось в душе, лишало надежд, омрачало сознание. Я никак не мог понять: в чем же моя вина и за что?.. К нам не было элементарного сочувствия, никакого милосердия — только жестокость. Каждый случай конфликта на работе заканчивался напоминанием: "Вас ликвидируют как класс. Ясно?" В этих словах слышался смысл предначертанной трагичности.
Не отличался мягкостью и десятник Ворошилов. Нам должны были выделить делянку лесосеки, и повел нас туда десятник. От проселка по накатанной дороге мы прошли километра полтора, затем свернули на пешеходную снежную тропинку, по которой идти можно было лишь друг за дружкой. Впереди шел десятник, за ним мы — гуськом. То поднимались в гору, то, огибая взгорки кружно, местами выходили на зимники, опять сворачивали. И мы предвидели, что возвращаться придется без проводника, присматривались, примечали в местах скрещиваний и развилок все то, что наиболее характерно: горелые сухарники, буреломы, скальные выступы, чтобы не заблудиться на обратном пути. Часов у нас не было, и примерное расстояние определить было трудно, хотя в голове уже вертелся вопрос: "Да где же, наконец, та таинственная делянка?" А мы все шли и шли. Долго шли. Потом уж мы узнали, что в один конец быстрым шагом надо идти часа полтора. Но вот, свернув на заснеженную целину, десятник остановился. Посмотрев туда, сюда, он вытянул руку и, очертив ею полукруг, выпалил:
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Родина и чужбина"
Книги похожие на "Родина и чужбина" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Иван Твардовский - Родина и чужбина"
Отзывы читателей о книге "Родина и чужбина", комментарии и мнения людей о произведении.