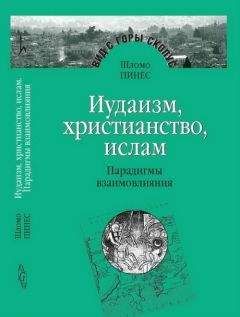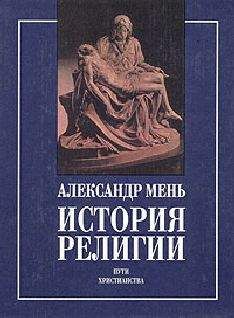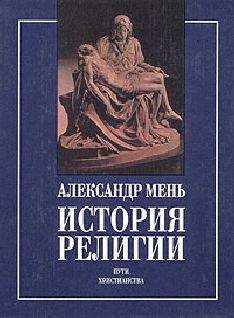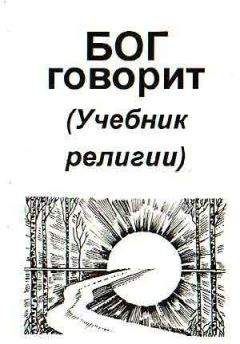Карен Армстронг - История Бога. Тысячелетние искания в иудаизме, христианстве и исламе

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "История Бога. Тысячелетние искания в иудаизме, христианстве и исламе"
Описание и краткое содержание "История Бога. Тысячелетние искания в иудаизме, христианстве и исламе" читать бесплатно онлайн.
Откуда в нашем восприятии появилась сама идея единого Бога?
Как менялись представления человека о Боге?
Какими чертами наделили Его три мировые религии единобожия — иудаизм, христианство и ислам?
Какое влияние оказали эти три религии друг на друга?
Известный историк религии, англичанка Карен Армстронг наделена редкостными достоинствами: завидной ученостью и блистательным даром говорить просто о сложном. Она сотворила настоящее чудо, охватив в одной книге всю историю единобожия — от Авраама до наших дней, от античной философии, средневекового мистицизма, духовных исканий Возрождения и Реформации вплоть до скептицизма современной эпохи.
Затем произошла катастрофа — первобытное падение, которое гностики описывали по-разному. Одни утверждали, например, что София (Премудрость), последняя эманация, впала в немилость, поскольку пожелала обрести запретные знания о недоступной Божественности. Самонадеянность этих притязаний стала причиной изгнания ее из Плеромы; горе и страдания Софии воплотились в виде материального мира. С тех пор заблудшая изгнанница скитается по космосу, мечтая о возвращении к божественному Первоначалу. В этой смеси восточных и языческих идей выразилась убежденность гностиков в том, что наш мир есть в некотором смысле извращение мира небесного, вызванное неведением и путаницей. Другие гностики считали, что «Бог» не создавал наш мир, так как просто не имеет ничего общего с грубой материей. Вселенная сотворена одним из эонов, которого называли Демиургом, «Творцом». Он воспылал завистью к «Богу», захотел стать центром Плеромы — и, разумеется, был изгнан, после чего из духа противоречия сотворил вселенную. Но, как поясняет Валентин, Демиург «небо сотворил без знания, человека создал, не ведая человека, и землю произвел на свет без разумения земли».[37]
Однако другой эон, Логос, явился на помощь несовершенному творению и низошел на землю во плоти Иисуса для того, чтобы указать людям обратный путь к Богу. Со временем это направление христианства было полностью подавлено, но и столетия спустя иудаисты, христиане и мусульмане будут вновь и вновь возвращаться к этой мифологеме, чувствуя, что она выражает их религиозные переживания точнее, чем ортодоксальное богословие.
Такие мифы не задумывались как буквальные и достоверные рассказы о сотворении и спасении; они были лишь символическим отражением некой сокровенной истины. «Бог» и Плерома — отнюдь не внешние, пусть и очень далекие реалии; искать их следовало прежде всего в собственной душе:
Оставь поиски Бога и сущего, и прочие подобные искания. Ищи Его, взяв началом себя. Познай, кто в тебе делает все Его собственным и говорит: «Мой Бог, мой ум, моя мысль, моя душа, мое тело». Познай источник радостей и печалей, любви и ненависти. Познай, что значит созерцать не желая и любить непроизвольно. И если тщательно изучишь это, то найдешь Его в себе.[38]
Плерома означала карту души. Если знаешь, куда глядеть, то различишь божественный свет даже в том мраке, в который погружен мир, ведь при Изначальном Грехопадении — Софии ли, Демиурга ли — из Плеромы брызнуло немало божественных искр, увязших после в материи. Гностик может найти такую искру в собственной душе, осознать в самом себе частицу Божественности, которая поможет нащупать путь домой.
Пример гностиков показывает, что многие новообращенные христиане не удовлетворялись традиционными представлениями о Боге, унаследованными от иудаизма. Мир вовсе не казался им «благом», творением доброжелательного божества. Сходная раздвоенность и неопределенность характерна для доктрины Маркиона (100–165 гг.), который основал в Риме свою конкурирующую Церковь и привлек множество последователей. Иисус говорил, что доброе дерево не приносит худых плодов,[39] так разве этот мир, где неприкрыто царят зло и страдания, мог быть создан благим Богом? Маркиона тоже ужасали древнееврейские писания, где речь идет о лютом и кровожадном боге, истреблявшем в праведном гневе целые народы. Маркион решил, что наш мир сотворен именно еврейским богом, который «ищет войны, непостоянен в своем намерении и даже противоречит себе».[40] Однако Иисус поведал людям, что есть и другой Бог, о котором в древнееврейских книгах не упоминалось. Этот, второй Бог «кроток, ласков и весьма добр, даже чрезвычайно»,[41] — иными словами, совсем не похож на свирепого «Судию», создавшего нашу вселенную. Люди должны, таким образом, отвернуться от земного мира, который ничего не расскажет о милосердном Боге, ибо не Им сотворен. Следует также полностью отказаться от «ветхого» завета и сосредоточиться исключительно на новозаветных текстах, сохраняющих дух Иисуса. Популярность учения Маркиона подтверждает, что своей философией он открыто выразил общее беспокойство. Было время, когда он, казалось, вот-вот учредит независимую Церковь. Маркион нащупал больное место в христианском мироощущении. Целым поколениям христиан было невероятно трудно воспринимать материальный мир положительно, а многие из них до сих пор не знают, как относиться к древнееврейскому Богу.
Богослов Тертуллиан (160–220 гг.) из Северной Африки показал, впрочем, что Маркионов «благой» Бог похож скорее на греческого, чем на библейского. Действительно, столь безмятежная сущность, никак не соприкасающаяся с нашим порочным миром, больше напоминает аристотелевский Недвижимый Двигатель, нежели еврейского Господа. В греко-римском мире библейский Бог действительно воспринимался многими как божество дикое, то и дело допускающее промахи и, в целом, не заслуживающее почтения. Около 178 года языческий философ Цельс обвинил христиан в узкопровинциальном подходе к идее Бога. Его возмущал тот факт, что христиане притязают на особое и исключительное положение; Богу угодны все люди, а эта жалкая горстка христиан твердит: «Господь оставил весь мир и движения небесные, позабыл о просторах земных, сосредоточив внимание только на нас».[42]
Когда римская власть преследовала ранних христиан, их чаще всего обвиняли в «безбожии», так как новая концепция божественного была прямым оскорблением римской морали. Народ боялся, что христиане, не воздающие должного традиционным богам, поставят под угрозу все государство, и общественный порядок, и без того неустойчивый, рухнет. Христианство считали варварской верой, пренебрегающей всеми достижениями цивилизации.
И все же к концу II столетия в христианство начали обращаться по-настоящему образованные язычники. Им удалось примирить библейского бога семитов с греко-римскими идеалами. Первым из таких ученых стал Климент Александрийский (ок. 150–215 гг.), который, похоже, изучал прежде в Афинах философию. Климент не сомневался, что Яхве и Бог греческих мыслителей — один и тот же, а Платона называл «аттическим Моисеем». Однако богословие Климента изрядно удивило бы и апостола Павла, и самого Иисуса. Как у Платона и Аристотеля, главной характеристикой Бога у Климента оставалась apatheia: Он совершенно бесстрастен, неизменен и безучастен. Христиане могут причаститься божественному бытию, подражая спокойствию и невозмутимости Господа. Разработанный Климентом подход к жизни удивительно напоминает подробнейшие правила поведения, составленные когда-то раввинами, — с той лишь разницей, что постулаты Климента имели много общего с идеалами стоиков. Божественная безмятежность должна быть для христианина образцом в каждой мелочи жизни: нужно сидеть ровно, говорить тихо, смеяться сдержанно и даже отрыгивать неприметно. Благодаря прилежному воспитанию в себе бесстрастия христианин почувствует беспредельный внутренний Покой — подобие Бога, запечатленное в глубине человеческой души. Между Богом и людьми нет пропасти — и, соприкоснувшись с божественным идеалом, христианин ощутит присутствие Божественного Спутника, который «разделяет с нами кров, и стол, и всякие нравственные тщания нашей жизни».[43]
Тем не менее Климент тоже верил, что Иисус был «Богом живым, Который страдал и Которого ныне почитают».[44] Тот, кто «их ноги […] омыл, перепоясавшись льняным полотенцем», был, без сомнений, смиренный «Бог и Господь вселенной».[45] Подражая Иисусу, христианин тоже станет богоподобным: божественным, незапятнанным и бесстрастным. Действительно, Христос был божественным логосом, который облекся плотью, «чтобы могли научаться люди у человека, как стать Богом».[46] Сходные идеи проповедовал на Западе Ириней, епископ Лионский (130–200 гг.): Иисус был воплощенным Логосом, божественным Замыслом. Воплотившись, он освятил все ступени человеческого развития и стал образцом для христиан, которые должны подражать ему во всем, как актеры, целиком перенимающие характер своего персонажа. Так христианин воплощает в жизнь свой потенциал.[47] И Климент, и Ириней пытались приспособить иудейского Господа к характерным для их эпохи и культуры взглядам. И хотя Бог этот имел мало общего с чутким и ранимым Богом пророков, Климентова доктрина apatheia стала впоследствии основополагающей концепцией Бога в христианстве. В греческом мире людям хотелось подняться выше изменчивости и суетных чувств, обрести сверхчеловеческий покой. Несмотря на свою внутреннюю парадоксальность, именно этот идеал и одержал в конце концов победу.
Климент тоже обошел стороной важнейшие вопросы богословия. Как простой смертный мог быть одновременно Логосом, божественным Замыслом? Что именно означают утверждения о божественности Иисуса? Совпадают ли понятия «Логос» и «Сын Божий» и какой смысл приобретает это древнееврейское звание в эллинистическом мире? Как безучастный Господь мог страдать в Иисусе? Почему вообще христиане считают Иисуса божественным, хотя сами настаивают, что на свете только один Бог? В III в. христиане начали сознавать эти проблемы особенно остро. Сначала некий римлянин по имени Сабеллий, о котором почти ничего не известно, предположил, что библейские понятия «Отец», «Сын» и «Дух» можно сравнить с масками (personae) вроде тех, какие носили тогда в театрах лицедеи, чтобы голоса звучали громче. Единый Господь открывается миру под тем или иным «лицом». У Сабеллия нашлись ученики, но большую часть христиан его теория встревожила. Из нее следовало, в частности, что, играя роль Сына, неуязвимый Бог в некотором смысле страдал, а подобная мысль казалась многим совершенно неприемлемой. Не меньшее возмущение вызвал в ту эпоху и Павел Самосатский (с 260 по 272 годы — епископ Антиохийский), который утверждал, что Иисус был простым смертным, в котором, как в храме, пребывали Слово и Премудрость Господа. В 264 году синод в Антиохии осудил богословие Павла, и тому удалось сохранить епископский сан только благодаря поддержке Зенобии, царицы Пальмирской. Как мы видим, для христиан было очень непросто примирить уверенность в божественной сущности Иисуса со столь же непоколебимой убежденностью в том, что Бог един.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "История Бога. Тысячелетние искания в иудаизме, христианстве и исламе"
Книги похожие на "История Бога. Тысячелетние искания в иудаизме, христианстве и исламе" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Карен Армстронг - История Бога. Тысячелетние искания в иудаизме, христианстве и исламе"
Отзывы читателей о книге "История Бога. Тысячелетние искания в иудаизме, христианстве и исламе", комментарии и мнения людей о произведении.