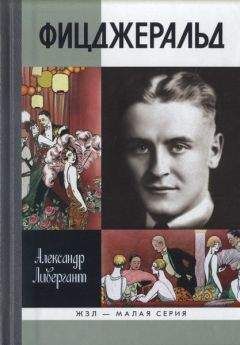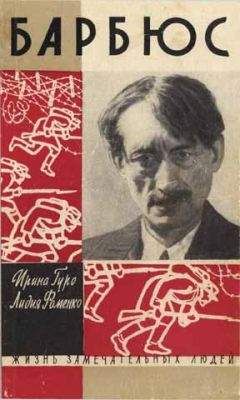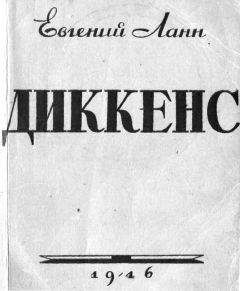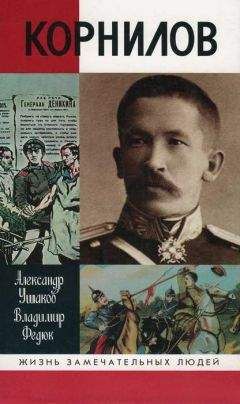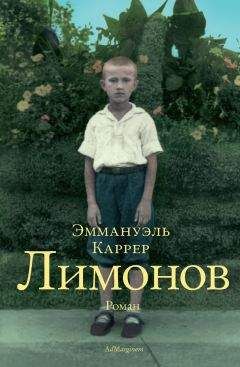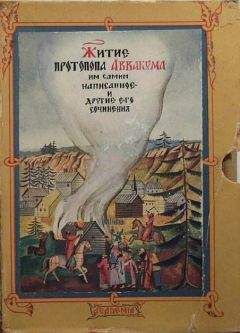Людмила Сараскина - Александр Солженицын

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Александр Солженицын"
Описание и краткое содержание "Александр Солженицын" читать бесплатно онлайн.
Александр Исаевич Солженицын — редкий в современной словесности пример писателя-трибуна, писателя-моралиста. Его биография вместила в себя войну и лагеря, Нобелевскую премию и преследования, завершившиеся изгнанием из СССР. 20 лет, проведенные в эмиграции, не разорвали связь Солженицына с родиной — сразу после триумфального возвращения в Москву он включился в общественную жизнь, напряженно размышляя о том, «как нам обустроить Россию». Не смягчая выражений, не стараясь угодить власть имущим, он много раз вызывал на себя огонь критики справа и слева, но сохранил высокий моральный авторитет и звание живого классика современной русской литературы.
К 90-летию А.И.Солженицына приурочен выход его первой полной биографии, созданной известной писательницей и историком литературы Л.И.Сараскиной на основе уникальных архивных документов, бесед с самим Солженицыным и членами его семьи.
Рано утром 24 марта командировка продолжилась, и пришлось пережить ещё немало приключений по дороге в Сталинград — ездить в полувагонах — железных открытых ящиках, ледяных ловушках на морозе и ветре; за три стакана табака (проездной билет от политрука Петрова!) ночевать у машиниста паровоза, куда посторонним нельзя было и заглядывать, и всё же день за днём продвигаться к цели. Однажды без спросу (табак давно закончился) он влез в товарняк, где были сложены сотни ватных одеял, вырыл себе тёплое логово и заснул медвежьим сном. Проснулся от голода и глухой тишины, обнаружил вагон с одеялами в снежной степи, без признака станции, без паровоза, и осознал, что пропала целая ночь и что он в капкане, на нетопленном полустанке, без продовольственного ларька. До Сталинграда оставалась двадцать одна верста — и неизвестно сколько дней ожидания хоть какого-нибудь транспорта. Солдат метался по путям, между грузовиком у маленького военного аэродрома (мотор не заводился, и на грузовик брать постороннего не хотели) и поездом на Сталинград, внезапно, вопреки всем ожиданиям, подошедшим к разъезду. Пришлось бежать по снежной целине, отлетали пуговицы, оторвалась — впервые за семь лет — ручка портфеля, уже начинал разгоняться поезд, и бегущий что есть мочи увидел перед собой открытую платформу с людьми и заднюю лесенку. Забросил наверх портфель, взметнул ноги, навалился грудью на нижнюю ступеньку, спиной почувствовал, что кто-то сзади вытягивает его наверх, очнулся, обнаружил себя целым и рядом — седого старика с древнерусской бородой. «Крепко ж за тебя молятся, несмышлёныш. Счастлив твой Бог», — сказал безымянный дед, спасший жизнь лихому солдату и ставший четвёртым в его золотом списке. И это был ещё не конец пути, удалось проехать всего один прогон, а дальше надо было снова искать поезд на Сталинград.
В Сталинграде всё отменно удалось — пробиться к капитану Горохову, отдать письмо лейтенанта Титаренко и замолвить словечко за себя (кончил физмат… пропадаю в обозе… прошусь в артиллерию). Горохов, высокий светловолосый капитан, выписал солдату личный пропуск в штаб артиллерии, к майору Чубукову: тот внимательно выслушал, поверил на слово — и (пятый в списке!) выдал направление в АКУКС (Артиллерийские курсы усовершенствования командного состава).
Сталинград не приманил остаться ни одного лишнего дня — ждала железная дорога с обратными поездами. Лейтенант Титаренко остался доволен исходом дела — вскоре капитан Горохов забрал его к себе в мотопехоту. Рядовому Солженицыну нужно было ещё продраться через своего командира батальона, получить открепление, чтобы дать законный ход диковинной бумаге Чубукова. С комбатом, однако, сначала не повезло: раскричался (почему не по форме? не по команде? почему минуете? что из себя возомнили?), рапорт порвал в клочья, пригрозил гауптвахтой. Но опять выручил Титаренко — новый рапорт через полчаса, перед самым обедом, сам подал среди других бумаг, листать не дал, и только углы отворачивал для подписи. И подпись комбата — косую, размашистую — получил.
Красноармеец Солженицын получал новое командировочное предписание в город Семёнов Горьковской области, на курсы усовершенствования командиров батарей, и сухой паёк на три дня. Маршрут был ясен — через Москву и Нижний Новгород, и он уже представлял мелкие и крупные станции, продовольственные ларьки, теплушки, платформы, паровозы. Но опять сказочно повезло: брат школьной соученицы и студенческий приятель в кондукторской форме Алтыкис, которого Саня увидел на подножке пассажирского поезда Москва-Баку (переезжал авиационный завод), впустил в вагон, и часть пути прошла в прекрасном купейном благополучии. А другой ростовский приятель по университету, Толя Строков (учился на курс младше, вместе готовились путешествовать по Кавказу), встреченный в театре Нижнего Новгорода, куда солдат Солженицын пришёл погреться до полуночи, увёл земляка досыпать до рассвета в студенческое общежитие. Оставалось одолеть последний железнодорожный пролёт Горький—Семёнов.
Спустя три недели после отъезда из Дурновки, ранним и ещё холодным утром 8 апреля 1942 года, Солженицын сошёл с паровозной сплотки на малолюдной станции Семёнов. Он был у цели, в получасе ходьбы от артиллерии и курсов командиров батарей. Но — ледяным предостережением дохнул на него дикий случай на станции: дюжие охранники непонятным образом задержали его прямо на перроне, завели в ТОГПУ (транспортный отдел ГПУ), обозвали «гадиной» («положи портфель! три шага назад!»), велели без промедления признаться, что он беглый зэк из Унжлага (красноармеец искренне не догадывался, о чём идёт речь, и понятия не имел, что к городу Семёнову примыкает ИТЛ — исправительно-трудовой лагерь, названный по здешней реке Унже), сверлили глазами его портфель и потребовали предъявить документы. Но бумаги оказались подлинными, и после нескольких вопросов его нехотя отпустили, велев больше не попадаться.
Первая открытка из АКУКСа (матери) была послана на следующий день, 9 апреля 1942 года. Допросом в ТОГПУ закончилась Санина солдатская жизнь, и её итог был, несомненно, в пользу солдата. «Я попал в офицеры не прямо студентом, за интегралами зачуханным, но перед тем прошёл полгода угнетённой солдатской службы и как будто довольно через шкуру был пронят, что значит с подведённым животом всегда быть готовым к повиновению людям, тебя, может быть, и не достойным», — писал Солженицын четверть века спустя; но всё же он продержался эти полгода, не скис и не сдался. Он научился видеть себя со стороны, глазами необразованного мужика с Дона, и сделал необходимые выводы. Он разглядел за серой массой обозников живые характеры, запомнил и цепким писательским взглядом ухватил и ничтожного революционера из-под Воронежа, и добрейшего сослуживца-сибиряка, и колоритного одессита, первого своего благодетеля на пути в артиллерию.
Солженицын-солдат выдержал экзамен на тяжёлый однообразный труд и — на свою человеческую состоятельность, доказав товарищам по лошадиному взводу, что высшее образование даже и на фоне конюшни имеет не смешную, а практическую, полезную сторону. Ни навоз, ни обозная наука не отняли у молодого учителя способности писать романтические письма и сочинять лирические стихотворения, и он ещё из Дурновки списался с МИФЛИ (которое в войну влилось в МГУ) и получил оттуда программы учебных курсов. Он не смирился с безопасной службой в глубоком тылу, хотя всегда мог бы оправдать её серьезным диагнозом своего призывного свидетельства и правилами военного времени о мобилизации ограниченно годных. Саня — имея память об отце-артиллеристе, обострённое гражданское чувство и здоровое мужское честолюбие, — рвался на фронт.
А впереди была вся война, и оставался серьёзный шанс глазами военного человека понять страну и народ, чью историю — по юношеской самоуверенности, — он намеревался писать и после всех злоключений в обозе не передумал.
Глава 2. Азбука офицерства и азы звукометрии
Начальник штаба 74-го Отдельного гужевого транспортного батальона лейтенант Титаренко был прав, когда усомнился в бумаге майора Чубукова, со штампом Управления артиллерии штаба округа, которую Солженицын вёз из Сталинграда в станицу Ново-Анненскую, в штаб батальона. «Как же это может быть: рядового — и сразу на курсы усовершенствования командиров батарей? Они же все — старшие лейтенанты да капитаны, с какой ты будешь стороны при них? Это — мудро что-то. Они тебя не примут».
Те несколько апрельских дней, что Солженицын пробыл в Семёнове, подтвердили сомнения: курсы АКУКС, где ускоренно давали знания по математике артиллерийским офицерам, не могли дать рядовому, хоть и с высшим математическим образованием, офицерского звания. Но майор Чубуков знал, что делал, подписывая направление: из АКУКСа солдата уже не вернули в обоз.
Полковник Кожевников, начальник курсов, дал ездовому Солженицыну направление в 3-е Ленинградское артиллерийское училище, которое с начала войны было эвакуировано в Кострому. 14 апреля 1942 года, промыкавшись несколько дней на железной дороге, Саня вошёл на территорию военного городка, где располагалось училище. В трёхэтажном кирпичном здании был штаб и управление 3-го ЛАУ, рядом деревянная казарма. «Я пошёл, — вспоминает Солженицын, — к начальнику училища полковнику Слепакову, в своей жёваной с одного боку короткой шинели и с школьным портфелем в руках. Он расхохотался и сказал: “Учитель! А по какой вы специальности? По высшей математической? Так мы вас определим в звукобатарею”». Уже 2 мая, в Ростове, Таисия Захаровна читала письмо сына-курсанта из Костромы.
До войны обучение в артиллерийском училище длилось три года. Теперь здесь учили краткосрочно — кого полгода, кого 8 — 9 месяцев, и называлось это курсами при училище, хотя всё равно при выпуске курсантам (за редким исключением), присваивалось лейтенантское звание, заветные две звёздочки. Солженицын появился в училище с трёхмесячным опозданием и пробыл в Костроме чуть более полугода. Но при его математической подготовке все дисциплины, связанные с расчётами, давались легко; так же легко удалось овладеть материальной и инструментальной частью, навыками звуковой разведки. На полевых учениях отрабатывали боевую стрельбу, курс рассыпáли по местности, «огневики» стреляли, «звуковики» засекали звуки, по которым должны были определить пункты нахождения огневой точки и давать правильные ориентиры «огневикам». Приёмники батареи звуковой разведки передавали сигналы на центральную станцию батареи, где были принимающие приборы. «Я руководил корректировкой стрельбы огневой батареи при помощи моей БЗР. Здорово! Из прежних выпусков ни одному курсанту не вываливало такое счастье», — писал Солженицын 26 июля 1942 года в дневнике, который недолго (июль—октябрь) вёл в училище, но с первых же записей «снова почувствовал себя писателем».
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Александр Солженицын"
Книги похожие на "Александр Солженицын" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Людмила Сараскина - Александр Солженицын"
Отзывы читателей о книге "Александр Солженицын", комментарии и мнения людей о произведении.