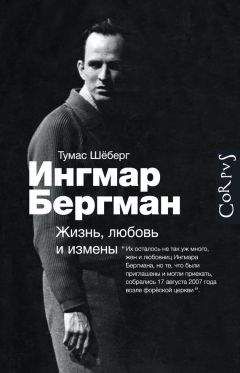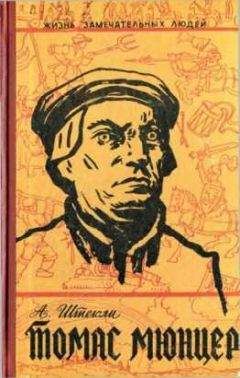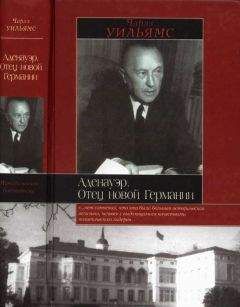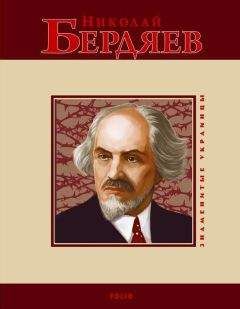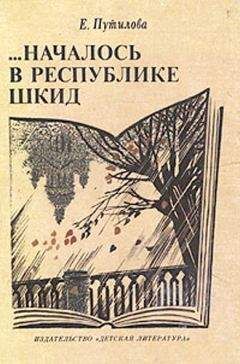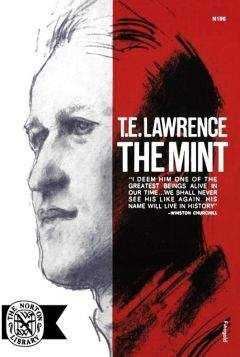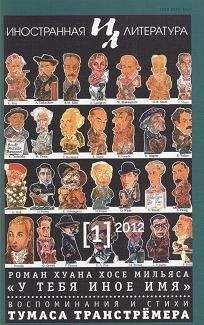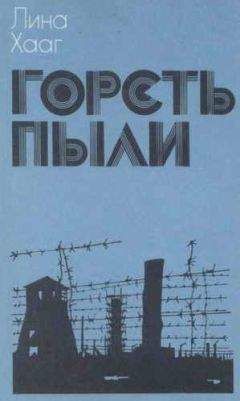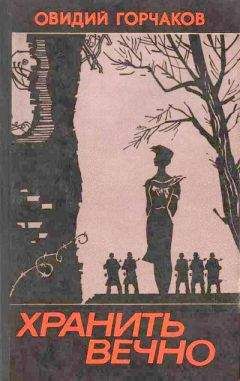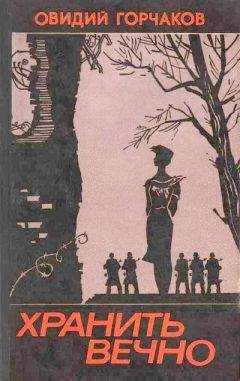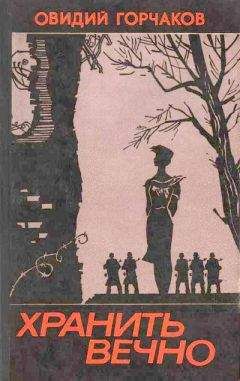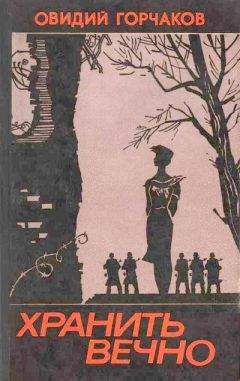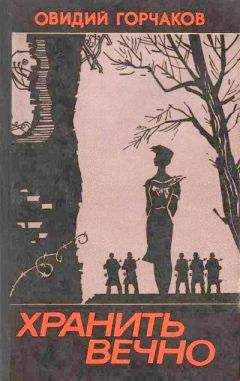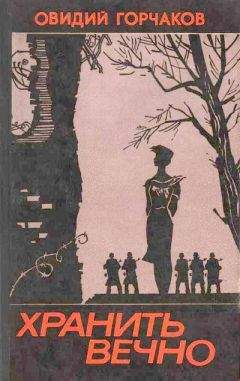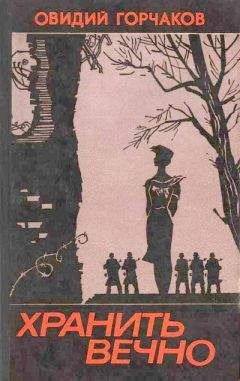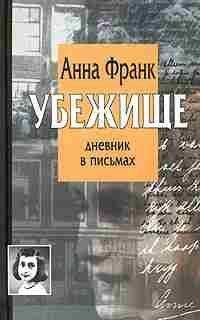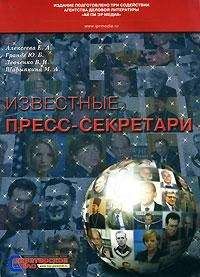Соломон Апт - Томас Манн

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Томас Манн"
Описание и краткое содержание "Томас Манн" читать бесплатно онлайн.
Томас Манн принадлежит к числу писателей, чье имя известно далеко за пределами его родины — Германии. «Будденброки», «Иосиф и его братья», «Доктор Фаустус» переведены на многие языки мира. Писатель, осудивший воинствующую империалистическую реакцию, вынужден был покинуть свою родину после прихода гитлеровцев к власти. Осуждение нацистского варварства, осуждение политики разжигания новой мировой войны характерны для творчества Т. Манна.
Мы позволим себе сравнительно пространно процитировать позднейшие, 1952 года, воспоминания нашего героя об этих днях: они, во-первых, широко открывают дверь в его мастерскую, а во-вторых, содержат не столь уж частые в его автобиографических рассказах подробности, касающиеся его бытовых привычек и вкусов, подробности, без которых и наш портрет, и так уже больше «внутренний», «духовный», чем внешний, рискует утратить свою скромную долю пластичности.
«...При всей угнетенности тогдашними своими писательскими заботами — работа над романом у меня не клеилась — я, как и он, от всего сердца благодарил судьбу за эту встречу. Мы вместе проводили вечера; наши жены нашли общий язык. Он сблизился со мной, охотно брал меня в больцанские питейные заведения и от всего сердца смеялся всякий раз, когда после холодного вина, которое я пил лишь ради него, я отводил душу за горячим кофе. Его, некурящего, очень забавляло, что я охотнее наслаждался своей сигарой, чем даром Бахуса, который его подкреплял и освежал. «Он курит», — произносил он на своем приятном силезском диалекте, довольный, по-видимому, тем, что и у меня была своя страстишка. И вот я встречался с ним каждый день, всматривался в него, ловил каждое его слово, каждый жест, и голос внутри меня говорил: «Это он!» Напомню: мое повествование застряло, я отыскивал образ, композиционно уже давно предусмотренный, пора было вводить его в роман, но я его не видел, не слышал — его у меня не было. Беспокойным и озабоченным прибыл я в Больцано, и то, что там со мною случилось, было прозрением. Другого слова не подберешь. Только не думайте, что я подсматривал за ним, предательски задумав списать с него портрет. Нет, все это делается иначе, — не так мелочно и низко. Можно ли приказать «наблюдать» глазам, которые упорно хотят лицезреть? Не к нему, моему благосклонному, великому другу, относились слова: «Это он!», а к чудесно-трагическому образу мингера Пеперкорна».
Раз уж зашла речь о прототипах, уместно упомянуть, что глава «Волшебной горы», названная «Еще некто» и вводящая в действие романа Нафту, была написана вскоре после того, как в январе 1922 года Томас Манн лично познакомился в Вене с венгерским литературоведом-марксистом Дьердем Лукачем, которого дотоле знал по его работам. От Лукача Нафте достался физиогномический облик, и впечатлению «жутковатой абстрактности», оставшемуся у автора после беседы с Лукачем, родственны и ощущение праздности интеллектуального спора, испытываемое героем, Гансом Касторпом, когда он слушает рассуждения Нафты и Сеттембрини в присутствии Пеперкорна, и тот страх бездорожья, страх потери ориентира, испытывая который среди снежной пустыни — а это лишь аллегория страха перед бездорожьем духовным, перед утратой гуманной опоры в жизни, — он вспоминает латинское изречение Нафты: «Проходит мимо образ мира сего». Но, сопоставляя подобные более или менее явные черты Лукача в Нафте с чисто личным отзывом Томаса Манна о Лукаче, как раз и видишь, что путь от прототипа к образу сложен и прихотлив, что тут «все делается не так мелочно и низко». А о самом Лукаче в одном из писем сказано следующее: «...человек, чьи интеллектуальная природа, мировоззрение и социальное кредо отнюдь не являются моими... Как-то в Вене он целый час развивал мне свои теории. Покуда он говорил, он был прав. И если потом у меня осталось впечатление жутковатой абстрактности, то осталось и впечатление чистоты и интеллектуального благородства».
«Волшебная гора» дописывалась и печаталась одновременно, так что книга в тысячу двести страниц вышла в свет ровно через два месяца после того, как автор в сентябре 1924 года поставил последнюю точку и вслед за ней, словно стремясь запечатлеть и волнение, и облегчение, и торжественность этой минуты, — патетические слова «Finis operis»34. Хотя многочисленные публичные чтения избранных отрывков из «Волшебной горы» проходили успешно, хотя редактор фишеровского издательства поэт Лерке, человек, безусловно, компетентный в конъюнктуре книжного рынка, находил роман «великолепным», автор не думал, что в Германии, еще не оправившейся от инфляции, «найдется больше двух-трех тысяч человек, согласных выложить шестнадцать, а то и двадцать марок за такое странное развлечение, не имеющее ничего общего с чтением романов в сколько-нибудь обычном смысле слова». Но книга разошлась очень быстро и очень быстро была переведена на разные европейские языки. Успех «Волшебной горы» в отличие от успеха «Будденброков» автор склонен был объяснять не литературными достоинствами своего второго монументального труда, а его злободневностью. «Бесспорно было одно, — писал Томас Манн в «Очерке моей жизни», — еще каких-нибудь десять лет назад эти два тома не могли ни быть написаны, ни найти читателей, для этого понадобились переживания, общие автору и его народу. Всеобщие бедствия подвергли восприимчивость широкой публики именно той алхимической «активизации», в которой заключалась суть приключений юного Ганса Касторпа. Да, несомненно, немецкий читатель узнал себя в простодушном, но «лукавом» герое романа; он был способен и согласен следовать за ним».
Как раз последнее не представляется нам несомненным «в свете нашего опыта». Едва ли были «способны и согласны» держаться касторповской середины между прекраснодушным просветительством «друга человечества» Сеттембрини и антигуманным на поверку радикализмом Нафты те молодые люди, которые топали ногами в бетховенском зале. А ведь они, если еще не фашисты, то уже духовные предтечи фашизма, тоже, по-видимому, принадлежали к читателям «Волшебной горы» и уж, во всяком случае, к бюргерству, с которым, в глазах автора, средний немецкий читатель сливался. С другой стороны, заявляло о себе и читательское несогласие с манновской картиной современной идейной жизни как с картиной односторонней, чисто бюргерской. Так, Бертольд Брехт усмотрел в этой книге, утверждающей прежде всего плодотворность оговорки, дистанции, «одобрение мира» и откликнулся на ее выход язвительной эпиграммой.
Несомненно другое: успех романа укрепил в его авторе то сознание сверхличной важности своей трактовки злободневных проблем, с которым он завершал свою работу и которое сказывалось в эти годы в новой для него, Томаса Манна, практике поездок по Европе в качестве гостя оплачивавших эти поездки корпораций. В мае 1924 года он ездил по приглашению голландского литературного объединения «Леттеркундиге Кринг» и пен-клуба в Амстердам и Лондон, в 1926 году — по приглашению «Фонда Карнеги», организации, основанной на средства американского миллионера Карнеги и провозгласившей своей целью «взаимопонимание между народами», — в Париж, в 1927 году по приглашению польской секции пен-клуба — в Варшаву. «Итак, значит, сегодня вечером dinner35 с Голсуорси, Уэллсом и Шоу, — писал он на следующий день по прибытии в Лондон Бертраму. — Как доходишь до этого?»
«Как доходишь до этого?» — вот очень характерное для него восклицание. Оно вбирает в себя и гордость явным наконец подтверждением его права говорить от имени многих немцев, и недоуменную растерянность человека, привыкшего предаваться полету воображения и мысли наедине с собой в отрешенной тишине кабинета, перед обнаруживающейся вдруг житейской состоятельностью своего «герметически» добытого опыта. Оно состоит в психологическом родстве с тем отношением к женитьбе как к сбывшейся наяву сказке о принце и прекрасной принцессе, о котором мы говорили однажды; с той реакцией Томаса Манна на появление на свет одного за другим обязанных ему этим появлением детей, которая открывается из строк «Песни о ребенке»:
Юный отец с удивленьем смотрел, как семья собиралась, —
Чуть ли не из году в год появлялись они друг за другом, —
Сам одинокий пока, но, гордясь этой резвой гурьбою,
Как и всегда, он, мечтатель, гордился реальности даром.
(Ибо тому, кто в мечты погружен, действительность мнится
Невероятнее всякой мечты и льстит ему тоньше.),
с его общим, наконец, рассуждением о фантастичности жизни, устанавливающей «реальные связи между нами и сферами действительности, которым когда-то, в хрупкую раннюю пору, мы склонны были приписывать лишь духовное и мифическое бытие», с тем рассуждением, которое в 1921 году вызвало у него, с юности любившего русскую литературу, принятое им лестное предложение «Южногерманского ежемесячника» написать предисловие к номеру, целиком посвященному русским писателям...
3
Одну из этих поездок — в Париж — он подробно, чуть ли не час за часом, описал в очерке, построенном в виде дневника и озаглавленном «Парижский отчет». Кроме собрания «Фонда Карнеги», он участвовал в заседаниях некоторых других объединений французской буржуазной интеллигенции — «Union pour la verite», «Union intellectuelle», — побывал на приеме в германском посольстве и на приемах в нескольких частных домах. Он выступал с речами, давал интервью. Он говорил об особенностях немецкого характера, делающих немцев «трудными детьми жизни» («трудное дитя жизни» — постоянный эпитет Ганга Касторпа), о романтическом тяготении к бессознательным силам, к бесформенности, хаосу, бездне, о слиянии этого исконного немецкого романтизма с грубейшими империалистическими тенденциями, о понятной неприязни мира к Германии, олицетворением которой стал для него этакий хамоватый генерал-директор, слушающий у электрического граммофона сентиментальную песню Шуберта. Он говорил, что в послевоенной Германии все сильней утверждается идея демократии, если понимать под ней убеждение, что утрачивать связь немецкой мысли с западноевропейской в такой мере, как это случилось, непозволительно, убеждение, что ни один народ не может безнаказанно оставаться глухим к практическому требованию разума — требованию содружества народов. Говорил он все это в дни, когда Германия готовилась вступить в Лигу наций и веймарским дипломатам в Париже не надо было вникать ни в покаянно автобиографический элемент этих речей, ни во все тонкости общегуманистических рассуждений писателя, чтобы оценить серию его выступлений как желательный политический шаг. А для него самого — и «Парижский отчет» тому свидетельством — дело шло о гораздо большем, чем данная дипломатическая конъюнктура, для него дело шло о дальнейших судьбах бюргерства и дальнейших судьбах Европы.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Томас Манн"
Книги похожие на "Томас Манн" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Соломон Апт - Томас Манн"
Отзывы читателей о книге "Томас Манн", комментарии и мнения людей о произведении.