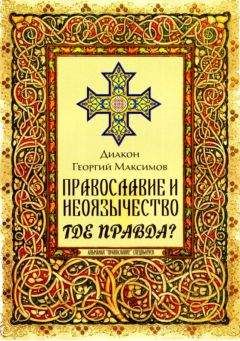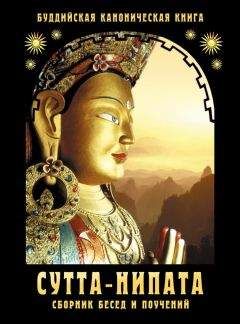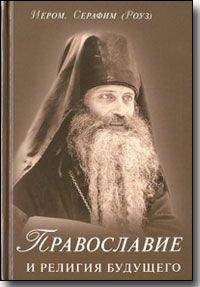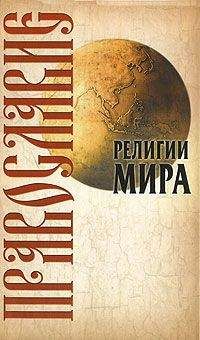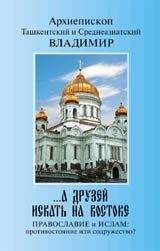Сергий Булгаков - Православие, Очерки учения православной церкви

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Православие, Очерки учения православной церкви"
Описание и краткое содержание "Православие, Очерки учения православной церкви" читать бесплатно онлайн.
«Православие» — одна из наиболее значительных работ замечательного русского мыслителя С.Н. Булгакова (1871–1944), в которой он излагает особенности православного учения.
Эту полноту историческое человечество определяет в меру своего собственного разумения. Пред православным сознанием наших дней она стоит в предельной максимальной форме как оцерковление всей жизни чрез определяющее влияние Церкви, путем внутреннего его проявления. В век, когда отделение Церкви от государства становится всеобщим лозунгом, эта идея может оказаться утопической и несовершенной. Однако она и могла возникнуть лишь тогда, когда изжило себя то подчинение Церкви государству, внешнее и внутреннее, доходящее порой до порабощения, которое принималось за норму их взаимных отношений и именовалось «христианским государством». Отказавшись от такого понимания (от которого все еще не хочет отказаться католическая Церковь, и в наши дни выражает его в восстановлении его символического «ватиканского» государства), православие только теперь получает возможность до конца осознать и поставить пред собою задачу внутреннего перерождения государства с конечным его растворением. Не эта ли мысль, в числе других, содержится в пророчестве о тысячелетнем царстве Христовом, в 20-й главе Апокалипсиса? Конечно, этим предполагается новое раскрытие сил Православия.
Подобная же задача Православию указуется в проявлении своей силы и своего влияния в культуре. Изначальное соотношение между религией и культурой состоит в том, что культура исходит из культа, имеет теургический и мистериальный характер. В дальнейшем совершается обмирщение культуры, ее секуляризация, «отделение» культуры от Церкви, в силу которого сама Церковь получает место лишь одной из многих отраслей культуры. Однако изначальное отношение выражает в себе внутреннюю норму, а теперешняя секуляризация есть болезненное от нее отклонение, которое должно иметь свой конец. Православие содержит в числе своих духовных даров и силу творчества культуры, которую имеет дать своим сынам (подобно тому, как Веселиила и его помощников исполнил Бог «Духом Божиим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством» (Исх. 31, 3)). Вместе с тем и собственное внутреннее развитие науки, искусства и всякого художества, при известной глубине и зрелости, приводит их самих к религиозному самоопределению и зовет принести свои дары Христу, как волхвы Вифлеемскому младенцу. Поэтому жизнь Церкви должна обрести еще неведомую полноту, наряду с теперешним сосредоточением на личном спасении в ней должны раскрыться силы христианской общественности. Разумеется, и это еще не будет «рай на земле», который бы сделал излишним и ненужным ее прохождение чрез огонь и преображение. После тысячелетнего царства следует по Апокалипсису восстание Гога и Магога со всеми народами, обольщенными сатаною; они окружают «стан святых и град возлюбленный» (Откр. 20, 7). Зло еще остается в мире и делает последние усилия. Однако этот последний бой предполагает не обессиленного и без того уже изнемогающего противника, но Церковь, явившую всю силу свою, какая только может быть ей доступна. Таковы предчувствия русской современной апокалиптики в православии. Согласно им, нельзя склонять голову пред совершающейся секуляризацией и разливом безбожия. Все это может быть лишь диалектическим моментом в историческом развитии, антитезисом, за которым еще следует новый синтез. Еще есть будущее в истории Церкви, ибо явно существуют дела и задачи, которые требуют своего разрешения. Если зеленеющее древо христианства кажется ныне увядшим, то не означает ли это того, что Садовником срезаны все старые побеги в винограднике Своем, чтобы тем сильнее произросли новые? Эта идея о высшем призвании Церкви, в отношении служения миру в разных формах, одушевляет православных русских мыслителей XIX–XX вв. и она же составляет идеологическую основу Русского Студенческого Христианского Движения за рубежом. У отдельных мыслителей эта мысль получает разное выражение при неизменности общей проблематики. Но общая черта их в том, что в них звучит зов к творчеству, к вдохновению, к преображению жизни. В учении Н. Ф. Федорова, о котором была речь выше, он переходит в зов к воскрешению сынами отцов, причем, тем самым, снимаются грани между этим веком и будущим, как и между апокалиптикой и эсхатологией. Конечно, все эти творческие устремления могут показаться лишь фантазиями уединенных мыслителей, не имеющих для себя ни церковного, ни исторического основания. Однако они имеют происхождение в церковности православной и питаются ее подземными ключами. И не казались ли современникам подобными же мечтателями и пророки Израиля, которые чрез разрушение царств и миров прозревали Будущее? Для этого устремления русской православной мысли, для этих творческих зовов и прозреваний существует внутренняя очевидность, которая больше, чем внешняя. И во всяком случае, не человеку ограничивать или вносить изменения в смысл молитвы Господней: да приидет Царствие Твое! Да будет воля Твоя, якоже на небеси и на земли!
ПРАВОСЛАВНАЯ ЭСХАТОЛОГИЯ
«Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века», гласит последний член символа веры, и такова общая христианская вера. Настоящая жизнь есть путь к жизни будущего века, «царство благодати» переходит в «царство славы». «Проходит образ века сего» (I Кор. 7, 31), стремясь к своему концу. Все мироощущение христианина определяется этим эсхатологизмом, в котором хотя и не обесценивается земная жизнь, но получает высшее для себя оправдание. Первохристианство всецело охвачено чувством близкого, немедленного конца: «ей, гряду скоро! Ей, гряди, Господи Иисусе!» (Апок. 22, 20); эти огненные слова небесной музыкой звучали в сердце первохристиан и делали их как бы надземными. Непосредственность ожидания конца с радостной его напряженностью в дальнейшей истории, естественно, утратились. Оно заменилось чувством конечности личной жизни в смерти и следующим за нею мздовоздаянием, причем эсхатологизм принял уже более суровые и строгие тона — одинаково, как на западе, так и на востоке. Вместе с этим в христианстве, и особенно в православии, развилось особое почитание смерти, до известной степени близкое древнеегипетскому, (как и вообще существует некая подземная связь между египетским благочестием в язычестве и православием в христианстве). Мертвое тело здесь погребается с почтением, как семя будущего тела воскресения, и самый чин погребения у некоторых древних писателей почитается таинством. Молитвою об усопших, их периодическим поминовением установляется связь между нами и тем миром, причем каждое погребаемое тело на богослужебном языке (в требнике) называется мощами, таит в себе возможность прославления. Разлучение души с телом есть некое таинство, в котором одновременно совершается суд Божий над падшим Адамом, раздирается состав человека в противоестественном для него отделении тела от души, но вместе и совершается новое рождение в мир духовный. Душа, отделившись от тела, непосредственно осознает свою духовность и находит себя в мире бесплотных духов, светлых и темных. С этим новым состоянием связано и ее самоопределение в новом мире, которое состоит в самоочевидном самораскрытии состояния души. Это и есть так называемый предварительный суд. Это самосознание, пробуждение души, изображается в церковной письменности в образах «хождения по мытарствам», носящее на себе черты иудейских апокрифов, если не прямо египетских образов из «Книги Мертвых». Душа проходит мытарства, в которых истязуется соответствующими демонами в разных грехах, однако охраняемая ангелами, и если тяжесть греха в ней оказывается преодолевающей, она задерживается в том или ином мытарстве и вследствие этого остается в удалении от Бога, в состоянии адских мук. Души же, прошедшие чрез мытарства, приводятся на поклонение Богу и удостоиваются райского блаженства. Этот удел в различных образах раскрывается в церковной письменности, но доктринально оставляется православием в мудрой неопределенности, как тайна, проникновение в которую совершается лишь в живом опыте Церкви. Однако является аксиомой церковного сознания, что хотя мир живых и умерших отделен один от другого, однако стена эта не непроницаема для церковной любви и силы молитвы. В православии огромное место занимает молитва за усопших, как совершаемая в связи с евхаристической жертвой, так и помимо ее, в связи с верой в действенность этой молитвы. Последняя может облегчать состояние грешных душ и освобождать их из места томления, изводить из ада. Конечно, это действие молитвы предполагает не только предстательство пред Творцом о прощении, но и прямое воздействие на самую душу, в которой пробуждаются силы для усвоения прощения. Душа возрождается к новой жизни, вразумленная пережитыми ею муками. С другой стороны, существует и обратное воздействие: молитвы святых действенны для нас в нашей жизни, а отсюда можно заключить и о действенности всякой молитвы даже и непрославленных святых (а может быть, даже и вовсе не святых), молящихся о нас Господу.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Православие, Очерки учения православной церкви"
Книги похожие на "Православие, Очерки учения православной церкви" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Сергий Булгаков - Православие, Очерки учения православной церкви"
Отзывы читателей о книге "Православие, Очерки учения православной церкви", комментарии и мнения людей о произведении.