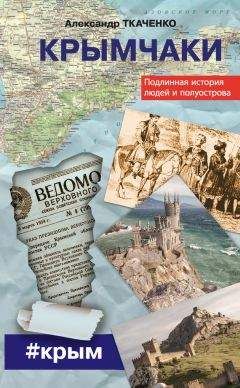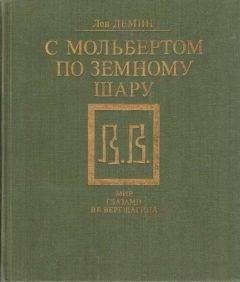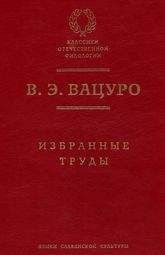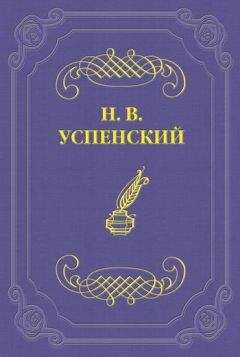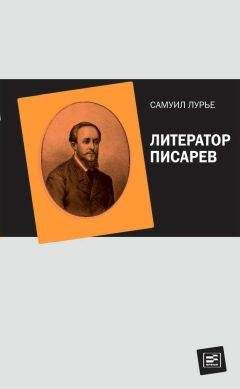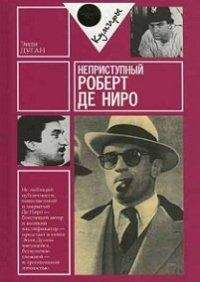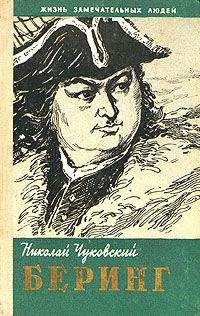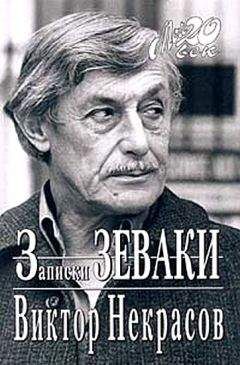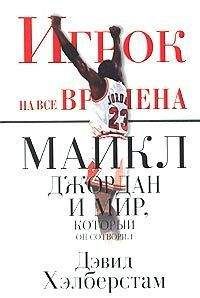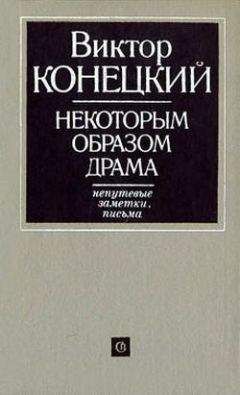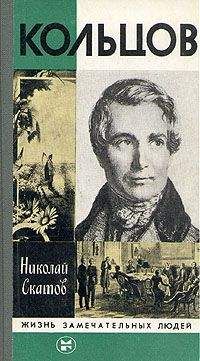Николай Скатов - Некрасов

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Некрасов"
Описание и краткое содержание "Некрасов" читать бесплатно онлайн.
Книга известного литературоведа Николая Скатова посвящена биографии Н.А. Некрасова, замечательного не только своим поэтическим творчеством, но и тем вкладом, который он внес в отечественную культуру, будучи редактором крупнейших литературно-публицистических журналов. Некрасов предстает в книге и как «русский исторический тип», по выражению Достоевского, во всем блеске своей богатой и противоречивой культуры. Некрасов не только великий поэт, но и великий игрок, охотник; он столь же страстно любит все удовольствия, которые доставляет человеку богатство, сколь страстно желает облегчить тяжкую долю угнетенного и угнетаемого народа.
Некрасов не мог добиться от Петра, чтобы он никого не принимал, когда бывала спешная работа по журналу. Петр отказывал всем посетителям, но генерала впускал и на выговоры Некрасова бормотал: «Ведь генерал-с, вот».
Вообще же удивительно не то, что с некрасовских журналов взыскивали и тот же «Современник» наконец запретили, а то, что так долго не запрещали. Кстати сказать, когда А. Н. Островский в тяжелом положении взывает к Некрасову («Будьте отец и благодетель!»), то имеет в виду его возможность «повлиять» на С. А. Гедеонова — директора императорских театров — в своем роде министра, или на А. В. Адлерберга — уже тогда без пяти минут министра императорского двора да к тому же и друга самого императора. Так что к поэту обращались, как бы зная, по грибоедовскому стиху, «с министрами про вашу связь». Но вернемся к нашему подъезду.
Конечно, образ вельможи, созданный в некрасовском стихотворении, много шире своих реальных прототипов, да во многом иной и по сути. Это уж никак не фигура николаевского чиновника, скажем, М. Н. Муравьева: жестокого, умного, страшно работоспособного и образованного: в частности, отменного математика. Так что чиновник, которому дана казенная квартира в министерском доме, совсем не то, что «владелец роскошных палат». У Некрасова же это именно барин, сибарит, погруженный в роскошь и негу. Недаром обычно его и называют вельможей, хотя самим поэтом так он нигде не назван. Однако именно такой образ не случаен: он не только контрастно противостоит образу крестьян, но, хотя совершенно в другом роде, ему соответствует. Он тоже предельно обобщен: нравственной высокости крестьян противоположена глубина нравственного падения вельможи.
Мастерски реставрировав оду, Некрасов вызвал к жизни образ целой эпохи, XVIII век, еще Белинским определенный как век «вельможества», и образом этой эпохи и масштабом ее характеризовал героя.
Некрасов продолжает биографию своего «героя» до самой смерти. Умрет он не на родине, к которой непричастен, а в Италии «под пленительным небом Сицилии». Вся эта картина — мира нерусского, иноземного. И здесь поэт оживляет еще одну традицию прошлого — идиллическую поэзию, восходящую опять-таки к классицизму XVIII века и через него к классической древности:
Безмятежней аркадской идиллии
Закатятся преклонные дни:
Под пленительным небом Сицилии,
В благовонной древесной тени...
Наконец, на смену оде и идиллии пришла форма чисто русская, национальная:
И застонут... Родная Земля! –
Назови мне такую обитель,
Я такого угла не видал,
Где бы сеятель твой и хранитель,
Где бы русский мужик не стонал?
Призывное «Выдь на Волгу» достигает эффекта музыкального взрыва:
Выдь на Волгу: чей стон раздается
Над великою русской рекой?
Этот стон у нас песней зовется —
То бурлаки идут бечевой!..
Стон мужика подхвачен песней-стоном как бы бурлацкого хора. Дело не только в том, что сказано о бурлаках, но и в том, как о них сказано. Слово «выдь» у ярославца Некрасова не произвольное — оно характерно для жителей ярославского, «бурлацкого» края. Так же как и слово «бурлаки» с типичным для такого говора ударением на суффиксе «ак»: здесь у поэта не стихотворный размер блюдется, а интонация бурлацкой речи появляется. Недаром в конце вступает тема Волги — извечной героини русских народных песен — поет уже как бы вся Русь:
Волга! Волга!.. Весной многоводной
Ты не так заливаешь поля,
Как великою скорбью народной
Переполнилась наша земля —
Где народ, там и стон...
У Некрасова предшествующая идиллия или одическая часть стихотворения не поются. Отрывок же, начиная со слов «Назови мне такую обитель...», давно стал одной из любимых песен революционной, демократической, особенно студенческой молодежи: так музыкален весь его строй. Песен о народе. Но сам народ эту песню не запел, и она все же осталась «интеллигентской» песней.
И не песня-стон заканчивает это произведение, названное размышлениями, а именно размышления — и по поводу песни-стона тоже — раздумья о судьбах целого народа с мучительным вопросом-обращением к народу:
...Эх, сердечный!
Что же значит твой стон бесконечный?
Ты проснешься ль, исполненный сил,
Иль, судеб повинуясь закону,
Все, что мог, ты уже совершил, —
Создал песню, подобную стону,
И духовно навеки почил?..
Много лет спустя, в 1886 году, Чернышевский сообщил:
«...в конце пьесы есть стих, напечатанный Некрасовым в таком виде:
Иль, судеб повинуясь закону...
Этот напечатанный стих — лишь замена другому». Были попытки реконструкции этой строки. Предлагались варианты: «Иль; царей повинуясь закону», «Иль, покорный царю и закону». И даже — на основе одной рукописной копии 60-х годов прошлого века: «сокрушишь палача и корону». Как видим, все они предполагают желание «уесть» царя и, пожалуй, скорее отражают революционные устремления самих реставраторов. Все эти предположения основаны на догадках, документально не подтверждены и не заменяют того текста, который мы знаем:
Иль, судеб повинуясь закону...
В противостоянии цензуре Некрасов, как и многие в русской литературе, часто свою мысль углублял и усиливал.
Одним из авторских окончаний этих «Размышлений» были стихи:
О! вовеки тот памятен будет,
По чьему мановенью народ
Вековую привычку забудет
И веселую песню споет.
Все это напоминает стихи из «Деревни», написанной Пушкиным, еще юношей: «И рабство падшее по манию (у Некрасова по «мановению». — Н. С.) царя». От, такого окончания Некрасов отказался, и не потому, что не верил в такое падение по манию царя: через три года оно, кстати сказать, и совершится. Опять не случаен настойчивый для всего этого времени у Некрасова мотив — сна. Главный вопрос — о законах судеб народных во всей сложности и во всем объеме. Главный к народу вопрос: «...духовно (!) навеки почил?» Если да — все кончено, если нет — все спасено. В общем, извечное: Русь, дай ответ. Не дает ответа.
И даже в самых, казалось бы, политизированных и «революционизированных» стихах этой поры Некрасов дает иные ответы, чем те, которые готовы были увидеть тогда и видели потом. А видели в них что-то вроде ответа на последний вопрос «Размышлений». Сама простота подобных стихов кажется таковой лишь в контексте времени и немедленно усложняется в контексте всего некрасовского пути к народу.
На контекст времени — того, что называют в русской истории революционной ситуации конца 50-х — начала 60-х годов — Некрасов чутко отреагировал вскоре после «Размышлений», написав тоже сразу ставшую знаменитой «Песню Еремушке».
Сам по себе призыв к революционному подвигу в «Песне Еремушке» бесспорен. Однако решение вопроса о народе в «Песне» и о связи ее с революционной обстановкой не столь непосредственно, как об этом обычно пишут: де, обратился к народу с призывом. Хотя начато стихотворение как лихая народная песня:
«Стой, ямщик! жара несносная, Дальше ехать не могу!» Вишь, пора-то сенокосная — Вся деревня на лугу.
Но на этом вся «народность», собственно, и заканчивается. Далее следуют две контрастные песни, которые поют над ребенком «нянюшка» и «приезжий городской».
Пожалуй, и до сих пор никто не сказал о самой сути этого стихотворения лучше Добролюбова, писавшего одному из друзей: «Милейший! Выучи наизусть и вели всем, кого знаешь, выучить «Песню Еремушке» Некрасова, напечатанную в сентябрьском номере «Современника». Замени только слова истина — равенство, лютой подлости — угнетателям, это опечатки, равно как и вить в 3-м стихе вместо вишь. Помни и люби эти стихи: они дидактичны, если хочешь, но идут прямо к молодому сердцу, не совсем еще погрязшему в тине пошлости».
Добролюбов чутко заметил и точно определил основную особенность стихотворения — дидактичность. О какой дидактичности, однако, речь? Нет, добролюбовское определение не оговорка, а дидактизм «Песни Еремушке» не свидетельство их слабости, но выражение существенных особенностей Некрасова, и не одного Некрасова, в назревающей революционной обстановке. Этот «дидактизм» заключается не в учитель-ности стихотворения, а в его условности.
Прежде всего здесь есть условность внешняя, может быть, в чем-то связанная с желанием обойти цензуру. В сущности, некрасовское произведение есть поэтическая и политическая прокламация. Поэт не только зовет к нравственному подвигу, но ставит его в один ряд со знаменитым политическим лозунгом Великой французской революции: «Свобода, Равенство, Братство». И даже будучи искаженным в подцензурном варианте, лозунг этот сохранялся в основном своем виде:
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Некрасов"
Книги похожие на "Некрасов" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Николай Скатов - Некрасов"
Отзывы читателей о книге "Некрасов", комментарии и мнения людей о произведении.