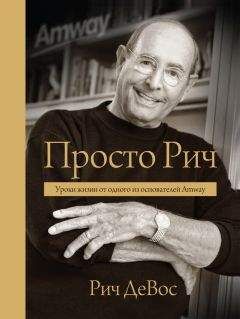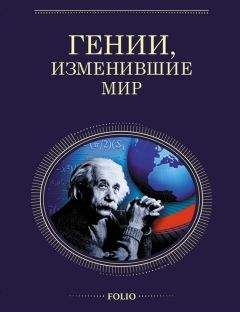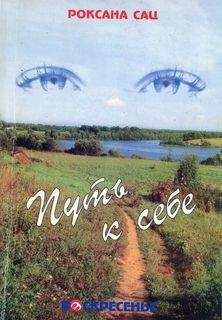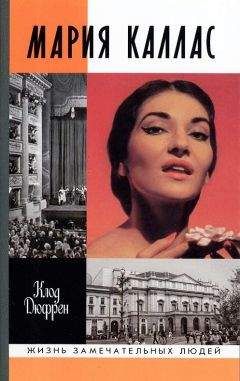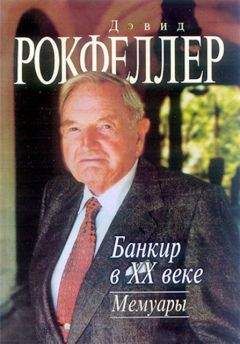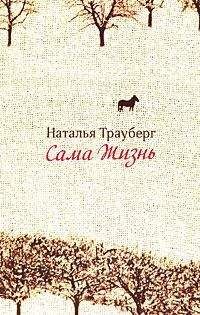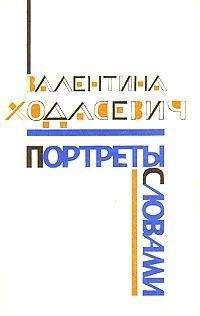Наталья Сац - Новеллы моей жизни. Том 2

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Новеллы моей жизни. Том 2"
Описание и краткое содержание "Новеллы моей жизни. Том 2" читать бесплатно онлайн.
В этой книге — как говорила сама Наталия Ильинична Caц — «нет вымысла. Это путешествие по эпизодам одной жизни, с остановками около интересных людей». Путешествие, очень похожее на какой-то фантастический триллер. Выдумать такую удивительную правду могла только сама жизнь.
С именем Н.И.Сац связано становление первого в мире театра для детей. В форме непринужденного рассказа, передающего атмосферу времени, автор рисует портреты выдающихся деятелей искусства, литературы и науки: К.Станиславского, Е.Вахтангова, А.Эйнштейна, А.Толстого, Н.Черкасова, К.Паустовского, Д.Шостаковича, Т.Хренникова, Д.Кабалевского и многих других.
В книге второй Н.И.Сац продолжает повествование о своем жизненном и творческом пути, рассказывает о создании Московского детского музыкального театра и его сегодняшнем дне.
Недавно в Театре на Малой Бронной «Ленушку» поставили. Бутафорскую зеленую свечу из картона сделали. Чужая она тут, и хоть я не бытописатель, фактура нужна мне настоящая, не бутафорская.
Вообще— то я зритель неприятный, придирчивый, своенравный, но в Художественном театре были моменты -дух захватывало, до чего верно, тонко додумано, выполнено.
Однажды сидел я на репетиции «Половчанских садов». Смотрю, на сцене ливень, и вдруг совсем затих на несколько минут, а потом зарядил дождик мелкий, шелестящий. Не знаю, кто это, режиссер или художник, придумал, но до чего же это верно: несколько минут перерыв, нет дождя, и потом мелкошелестящий — после настоящего ливня.
В театре не может быть ни одной пустой минуты, ни одного белого пятна. В моих пьесах никто за руку не здоровается. И даже это имеет значение. Художественный театр той эпохи, когда я с ним творчески был связан, был внимателен к малейшим деталям спектакля, ко всем его краскам. Сейчас мало я этот театр знаю.
Редактор Антонов рассказывал мне как-то о Леониде Максимовиче:
— Мы «Русский лес» в журнале «Знамя» печатали. Помню, предлагаю я: «Давайте это место лучше заменим». А Леонов: «Хорошо, давайте подумаем. Вы чем эту фразу заменить предлагаете? А вы, Татьяна Михайловна, как думаете? А вы?» Всех выслушает, а потом: «Нет, давайте, как у меня было, так
и оставим».
И так по всей книге — ничего изменить не дал. Зато потом Леонов мне «земным поклоном» кланялся, даже неловко было, при всех: за то, что все по его оставили.
Поразительно оберегает репутацию избранника своего Татьяна Михайловна. Она-то понимает Леонова до самого дна. Как-то сказала:
— Говорят, Леонид Максимович бывает резок, несдержан, но как часто задают ему ненужные какие-то вопросы. Неужели не понимают, что у него не один мир, как у них, а всегда дна, и тот мир, который он сейчас в себе для нового произведения вынашивает, для него еще более важный, реальный, чем этот общий, всеми видимый…
С неизменным восторгом слушаю, когда вдруг (почему-то это чаще на веранде бывает) Леонид Максимович вслух думать начнет:
— Если дерево у корня стальным прутом обвить — зажать, оно вдруг из последних сил столько листьев и цветов дает… Так и целые классы людей — уходящее дворянство, — какую литературу перед уходом из жизни дали!
Помню, в санатории кто-то спросил Татьяну Михайловну:
— Простите, я привык Леонова «Леонид Леонов» называть, а отчество его не дослышал… Леонид Михайлович, верно?
Татьяна Михайловна заволновалась:
— Что вы?! Конечно, «Максимович». Не вздумайте его по-другому назвать. Во всем он хочет ближе к Максиму Горькому быть. Главный он был в творческой жизни его, главным и остался.
Поразительно молодо умеет Леонов преклоняться перед учителями своими.
Люблю не только его прозу, но и публицистику. Вот несколько строчек, важных для понимания «литературного мировоззрения» Леонова:
«Мое литературное поколение обладало счастьем видеть, слушать и непосредственно учиться у зачинателя нашей — вот уже не очень молодой! — советской литературы Максима Горького. Почтительно и робко мы жали эту руку, еще сохранявшую тепло толстовского и чеховского рукопожатий. Люди до конца дней несут на себе отпечаток ближайших и старших современников. В голосе Горького слышалась нам порою суровая интонация толстовской речи, а в его взоре нередко являлся порой проникновенный, неподкупный и достигающий мельчайшей клеточки души чеховский юмор.
В могучей русской тройке, пересекшей рубеж нашего столетия, Толстой был как бы коренником».
«С Чеховым в литературе и на театре народилось понятно подтекста, как новая, спрятанная координата, как орудие дополнительного углубления и самого емкого измерения героя. Громаден подтекст чеховской жизни. Мы имеем дело с на редкость скупым и строгим к себе мастером — лермонтовской словесной сжатости, серовской точности рисунка. Он больше усилий прилагает не для того, чтобы родить слово, а чтоб убрать, смыть его совсем, если оно лишнее: остается лишь вырезанное навечно по бронзовой доске».
Только большие люди не боятся восторга перед истинно прекрасным.
Об Эрвине Пискаторе
Дорогой читатель! Давай сделаем экскурс в прошлое. Я хочу рассказать о замечательном режиссере и человеке, увы, мало у нас известном. Это режиссер-коммунист Эрвин Пискатор.
Расцвет его деятельности поражал, восхищал и возмущал Берлин двадцатых годов, Берлин, полный противоречий.
Эрвин Пискатор закончил свой творческий путь и жизнь в Западном Берлине в шестьдесят шестом. Горящий факел революционного театра он не выпустил из рук и там.
Свои режиссерские замыслы он осуществлял в атмосфере скандалов, судебных процессов, громовых оваций и оглушительного свиста. Но талант Писка-тора признавали все. Слова «самый современный и перспективный художник немецкого театра» то и дело попадались даже и в ругательных статьях о нем: «блудного сына» горячо убеждали заняться «чисто художественной» деятельностью.
Пискатор жил и умер как художник-борец. Мы не можем забыть имя режиссера Эрвина Пискатора, который во враждебном ему окружении всю свою жизнь созидал театры для народа, во имя народа.
Написала это вступление и опустила ручку. Быть может, вы будете ждать от меня театроведческой статьи? Напрасно. В этой книге только «новеллы моей жизни».
Мне было двадцать пять лет, когда я впервые попала в Берлин. Уже смотрела здесь спектакли в оперном театре и у Макса Рейнгардта. Но тут в Берлин приехал Александр Яковлевич Таиров. Он очень ценил мои первые режиссерские работы, конечно, еще гораздо больше — музыку моего отца. Естественно, я взирала на него в те годы «снизу вверх». Узнав о моих первых театральных походах, Таиров посмотрел на меня строго и спросил:
— Значит, в театре Эрвина Пискатора вы до сих пор не были? Это никуда не годится. Пискатор очень талантлив, и он самый близкий нам художник, художник современности — острый и значительный.
Вечером того же дня вместе с Александром Яковлевичем мы уже входили в театр на Ноллендорфплац, толпились в его широких дверях вместе с молодежью, очень похожей на нашу.
В театр Пискатора я пришла, как уже сказала, посмотрев несколько спектаклей у Рейнгардта. «Настроение» публики здесь иное.
Там — почтительная тишина, словно все входящие надевают мягкие бархатные туфли, а пол зрительного зала застелен большим пушистым ковром. Уже в вестибюле все начинают говорить вполголоса, подавляя в себе «всплески», принесенные из живой жизни. Почтительность богослужения.
В театре Пискатора люди чувствовали себя просто, как дома, они громко обменивались мнениями. Этот театр был для них неотъемлемой частью той живой жизни, в которой они искали правду, набирали силы для борьбы. Полный сбор! Преобладают рабочие блузы, джемпера; женщины — с короткой стрижкой. Но все же публика разная. Солидные господа и модные дамы с затейливыми прическами заранее возбуждены: для них Пискатор — скандально модный режиссер, как-то он будет эпатировать публику на этот раз.
Третий звонок. Все замолкло. Пьеса называется «Соперники». Главную роль играет Ганс Альбас. Вот герой в форме солдата — его гонят на войну. Он молод, здоров, любит и любим. Его гонят. Зачем? Сопротивляться он не может, но знает: с войны не вернется или вернется калекой. Движется без цели. Велят — идет… Как выразить это на языке театра? Помню, как горячо восприняла, увидев тогда впервые артиста, шагающего на месте, и проезжающие мимо него детали домов, фабрик, фонарей… Создавалось полное впечатление не просто движения, но и движения вынужденного, против воли. В спектакле не было декораций в общепринятом смысле: их заменили очень современные сооружения из металла и в первую очередь подъемный мост, перекинутый через всю сцену.
Я с детства привыкла к сукнам и бархату Художественного театра, к тихим приусадебным уголкам на его подмостках, к интерьерам с диванными подушками в гостиных «Месяца в деревне» и «У жизни в лапах». Конструктивное решение «Великодушного рогоносца» у Мейерхольда не принимала, казалось, оно существует отдельно от идеи и смысла самой пьесы. В спектакле Пискатора не было кулис и падуг. «Легкая индустрия» целиком уступала место настоящей технике, ее динамике, органически связанной с содержанием пьесы и современной жизнью.
В Москве в те годы было много режиссеров, имевших кроме театрального еще юридическое или какое-либо другое гуманитарное образование. Это были режиссеры-златоусты. А Пискатор в своей сердцевине — инженер-конструктор. Он считал, что в эпоху технических достижений, которые во много раз превосходят все другие, театр должен перегнать кино, и внес немало нового в технику сцены. Об этом уже читала. Но в «Соперниках» меня поразило другое: сила, с которой Пискатор давал почувствовать, как ползут на современного человека медь, сталь, железо, небоскребы, подъемные краны. Глядя на происходящее в спектакле, хотелось сказать:
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Новеллы моей жизни. Том 2"
Книги похожие на "Новеллы моей жизни. Том 2" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Наталья Сац - Новеллы моей жизни. Том 2"
Отзывы читателей о книге "Новеллы моей жизни. Том 2", комментарии и мнения людей о произведении.